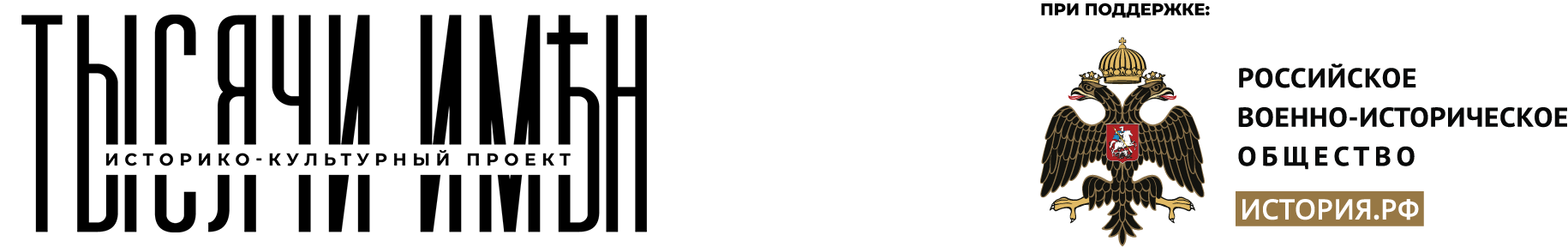Этот сайт использует cookies!
Нажимая «ОК», я соглашаюсь на обработку cookie-файлов, необходимых для корректной работы сайта
Нажимая «ОК», я соглашаюсь на обработку cookie-файлов, необходимых для корректной работы сайта
Мой прапрадед – военный священник
Памяти отца Александра Оделевского
и всех священников
Первой мировой войны посвящается
«Неужели это в самом деле я стою сейчас на панихиде в честь погибших в Первой мировой солдат – на такой же точно панихиде, какие служил отец Александр, мой родной прапрадед?» – эта мысль поразила меня, когда я закончила снимать первую часть репортажа 24 августа и, опустив камеру, посмотрела вокруг глазами прихожанки, а не репортёра.
Здесь, в Храме Всех Святых на центральной площади Гусева, под нежное и пронзительное церковное песнопение и молитву Владыки, я как будто ощутила на себе глубокий и добрый взгляд, которого никогда не знала лично, но столько раз видела на старинных чёрно-белых фотографиях...
В середине 1990-х, будучи ученицей средних классов пятой школы города Калуги, я часто гостила на выходных и каникулах в селе Красный Городок в доме своего прадеда, тогда уже покойного. Дед Костя умер в начале 90-х, и было ему за 90 лет. Всеми уважаемый человек, ветеран Великой Отечественной войны, агроном, семьянин, отец двух дочерей и сына. Тогда дед Костя был для меня старейшим мужчиной в роду, и о его родителях я ничего не знала. Но после его смерти в доме всё чаще стали слышаться какие-то непонятные обрывки историй чуть ли не вековой давности. А потом у меня в руках оказался старый семейный альбом, на страницах которого не было ни одного знакомого лица.
Один человек на этих фото был особенным. Стройная высокая фигура, спокойный, не по молодым годам глубокий взгляд, аккуратная борода, светлый костюм и белая шляпа. Это фото словно притягивало меня какой-то тайной и внутренней силой запечатлённого на нём мужчины. Вот он на других фото: рядом с ним молодая красивая женщина и, кажется, пятеро детей разных возрастов – семейное фото со странной подписью «Провожаем папу на войну» и год: 1914-й. Кто этот папа и на какую войну его провожают? Почему это фото в альбоме деда Кости? Откуда были и куда ушли эти люди? Много, много вопросов было у калужской школьницы, уже увлекавшейся историей, но ещё ничего не знавшей о своих корнях по бабушкиной линии.
Конечно, я стала задавать вопросы об этих удивительных фотографиях. Родственники не очень-то горели желанием рассказывать о них, да и сами знали немногое. Этот мужчина – Оделевский Александр Николаевич, он был военным священником и отцом моего прадеда Кости. Вот и всё, что могли мне ответить на протяжении нескольких лет. Раз за разом, урывками всплывали новые сведения: священник он был потомственный. Жил в селе Нежитино Костромской губернии с женой и детьми, жили бедно, отец Александр учительствовал в церковно-приходской школе.
Здесь, в Храме Всех Святых на центральной площади Гусева, под нежное и пронзительное церковное песнопение и молитву Владыки, я как будто ощутила на себе глубокий и добрый взгляд, которого никогда не знала лично, но столько раз видела на старинных чёрно-белых фотографиях...
В середине 1990-х, будучи ученицей средних классов пятой школы города Калуги, я часто гостила на выходных и каникулах в селе Красный Городок в доме своего прадеда, тогда уже покойного. Дед Костя умер в начале 90-х, и было ему за 90 лет. Всеми уважаемый человек, ветеран Великой Отечественной войны, агроном, семьянин, отец двух дочерей и сына. Тогда дед Костя был для меня старейшим мужчиной в роду, и о его родителях я ничего не знала. Но после его смерти в доме всё чаще стали слышаться какие-то непонятные обрывки историй чуть ли не вековой давности. А потом у меня в руках оказался старый семейный альбом, на страницах которого не было ни одного знакомого лица.
Один человек на этих фото был особенным. Стройная высокая фигура, спокойный, не по молодым годам глубокий взгляд, аккуратная борода, светлый костюм и белая шляпа. Это фото словно притягивало меня какой-то тайной и внутренней силой запечатлённого на нём мужчины. Вот он на других фото: рядом с ним молодая красивая женщина и, кажется, пятеро детей разных возрастов – семейное фото со странной подписью «Провожаем папу на войну» и год: 1914-й. Кто этот папа и на какую войну его провожают? Почему это фото в альбоме деда Кости? Откуда были и куда ушли эти люди? Много, много вопросов было у калужской школьницы, уже увлекавшейся историей, но ещё ничего не знавшей о своих корнях по бабушкиной линии.
Конечно, я стала задавать вопросы об этих удивительных фотографиях. Родственники не очень-то горели желанием рассказывать о них, да и сами знали немногое. Этот мужчина – Оделевский Александр Николаевич, он был военным священником и отцом моего прадеда Кости. Вот и всё, что могли мне ответить на протяжении нескольких лет. Раз за разом, урывками всплывали новые сведения: священник он был потомственный. Жил в селе Нежитино Костромской губернии с женой и детьми, жили бедно, отец Александр учительствовал в церковно-приходской школе.
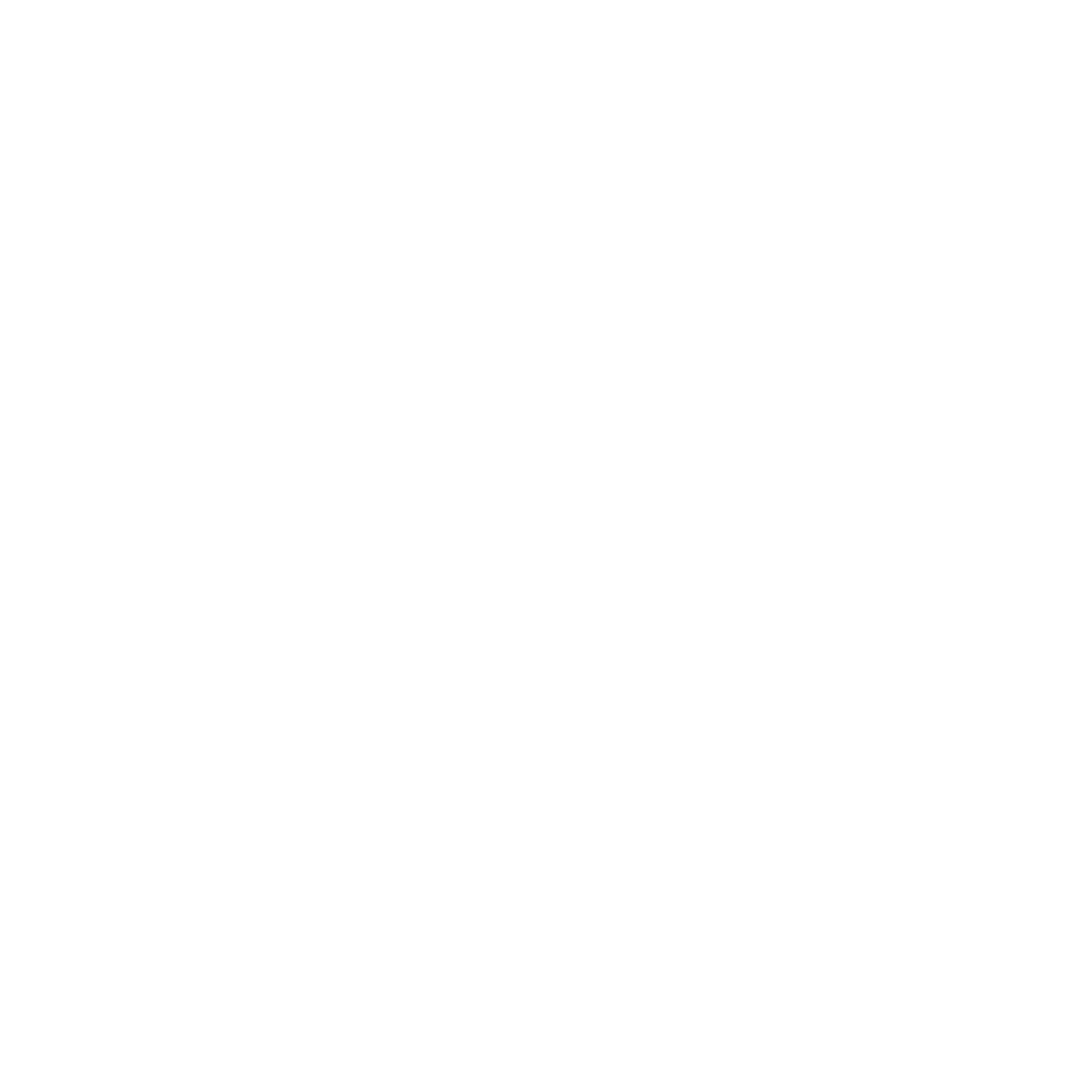
Значительно позже стали мне известны некоторые подробности, которые внук отца Александра восстанавливал по архивам и воспоминаниям родственников. Родился прапрадед мой 1 августа 1879 года в селе Тезино Кинешемского уезда Костромской губернии. Окончил Костромскую духовную семинарию и в том же 1901 году поступил учителем Коршунской церковно-приходской школы. Здесь же и познакомился со своей будущей женой – дочерью нежитинского священника Марией Федоровной Нагоровой. Венчание состоялось 26 мая 1902 года. И в следующем месяце Александр Николаевич был рукоположен в священника церкви села Нежитино Макарьевского уезда. А незадолго до Первой мировой войны, в сентябре 1913 поступил на службу в армию. И уехал вместе с женой и детьми в город Сувалки, в штаб 5-й стрелковой бригады, к которому был причислен военным священником. Сколько было детей у Оделевских – точно не известно: некоторые умерли в младенчестве, о других не сохранилось записей. Но в семейном альбоме я встречала фото, кажется, четверых уже взрослых сыновей и дочери.
А тогда, в конце 90-х, держа на коленях старый тяжёлый фотоальбом в твёрдой обложке из коричневой кожи с такими красивыми, слегка пожелтевшими и помутневшими от времени, фотографиями, я, не зная почти ничего об удивительном предке, испытывала благоговейный трепет. Мой прапрадед – военный священник! Какое странное сочетание слов. Священник, прошедший Первую мировую войну...
Позже, уже будучи студенткой калужского истфака, я узнала о его военных наградах. Отец Александр получил Георгиевский крест за свои заслуги, но за какие – никто пока не смог выяснить. Потом появилась информация и об ордене Св. Анны. О болезни и лечении в госпитале, о последующем возвращении на фронт уже священником 20-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. Ещё несколько лет спустя, переехав в Калининградскую область, узнала я и о том, что путь отца Александра в 1914-м году проходил не просто по той области, в которой я живу теперь – а по улицам, по которым каждый день хожу! Мне довелось прожить пару лет в посёлке Железнодорожный Правдинского района, который во времена службы моего прапрадеда носил название Гердауэн, и был городом, где состоялось крупное сражение в сентябре 1914 года. «И вот так же, как теперь служат в годовщину Гумбиннена и других сражений, – думала часто с тех пор я, – служил он панихиды по погибшим нашим солдатам и офицерам, отпевал их на поле сражения, а перед боем благословлял и напутствовал, и не оставался в стороне ни от каких тягот военного времени».
В 2000-х его внук, брат моей бабушки, Владимир Константинович всерьёз увлёкся историей семьи. Благодаря упорному труду и изучению многих документов в архивах, дедушка Вова смог восстановить практически всю историю жизни отца Александра и написал о нём книгу. Нашёл даже сведения о том, что прапрадед, как минимум один раз, лично встречался с императором Николаем II. Но меня по-прежнему больше всего интересовал другой вопрос, на который никто не мог бы дать ответа, кроме самого священника.
Передо мной была история человека, безусловно, незаурядного, сильной личности, смелого и искреннего служителя веры. История эта была сложной и трагической. Первая мировая закончилась для Российской империи революцией и сломом всех основ – всего того, чему принадлежал мой прапрадед и поколения его предков. Мир, частью которого был отец Александр, не просто перестал существовать – он был переломан и вместе с ним переломаны судьбы. Детям нужно было устраиваться в новом мире, и один из них, тот самый дед Костя, в чьём доме я проводила каникулы и выходные в школьные годы, стал коммунистом. А после, конечно, фронтовиком, и шёл практически тем же путём в 1945 году по Восточной Пруссии, каким шёл его отец в 1914-м. Но отец его давно уже был репрессирован, прошёл Соловки и умер в начале 1942-го в Нижнем Новгороде. Его потомкам не осталось даже могилы, куда могли бы мы прийти и задать свои вопросы: кладбище, где был похоронен Оделевский Александр Николаевич, в 1970-е сровняли с землёй и застроили... Его постаревшая, перенёсшая инсульт, жена доживала свой век в Подмосковье, вместе с дочерью. Сыновья разъехались по всей стране и долгие годы даже не поддерживали связь между собой. Его выбившийся в люди при новых условиях старший сын отвечал своему сыну на расспросы ребёнка о дедушке так: «Твой дедушка шёл зимой через Волгу, упал об лёд и умер. А на месте его могилы теперь Горьковское водохранилище». Это было всё, что долгие годы знали о военном священнике Русской императорской армии его потомки. Не осталось ничего, кроме каким-то чудом сохранившегося, безмолвного фотоальбома.
Сейчас даже через простой поиск в интернете легко можно найти информацию о послевоенных годах, аресте и приговоре суда. После Первой мировой Александр Николаевич работал в городе Юрьевце в конторе лесозаготовок. С 1922 по 1930 годы снова служил священником в нежитинском храме. 20 февраля 1930 года был арестован Кинешемским окружным отделом ОГПУ. Обвиняли Александра Николаевича в том, что он являлся участником церковно-торгашеской группы и вёл антиколхозную пропаганду. Осуждён по статье 58-10 УК РСФСР и отправлен в концлагерь на три года. Реабилитирован в марте 1989 года.
И я всё задавалась вопросом: «Почему он не уехал из России тогда, после Первой мировой? Почему не уехал после, в 1920-е? Что могло его держать в этой стране, где он лишился всего: веры, семьи, заслуг? Ведь он сознательно обрёк себя на путь репрессий, одиночества и забвения!» Долгие годы эта загадка была для меня неразрешимой. А ответ на мои вопросы был меж тем совершенно прост и ясен, как солнечный свет, проникающий в высокие окна русских храмов...
Ответ на мои вопросы пришёл ко мне сам, в феврале 2022 года, когда моя страна начала специальную военную операцию на Украине, и со всех сторон поднялись самые противоречивые волны человеческих слов и поступков. В первый же день я совершенно ясно поняла: у отца Александра не могло быть даже мысли о том, чтобы уехать из своей страны. Разве мог он, потомственный русский священник, сбежать куда-то, когда на долю его страны выпали испытания? Разве имело для него значение что-то земное и сиюминутное, пусть даже его собственная жизнь? Нет, отец Александр не потерял ни веры, ни страны, ни своей чести. Никогда русский воин и священник не мог бы отказаться от своей земли, от своего мира и бежать куда-то.
И сейчас, стоя в храме на панихиде, я думала о том, что отец Александр и другие, такие как он, сто лет назад не просто несли службу с честью – а передали потомкам великое светлое право и честь гордиться своими предками, верить в силу духа и Божью справедливость и обращаться к ним за благословением и помощью в трудную минуту.
А тогда, в конце 90-х, держа на коленях старый тяжёлый фотоальбом в твёрдой обложке из коричневой кожи с такими красивыми, слегка пожелтевшими и помутневшими от времени, фотографиями, я, не зная почти ничего об удивительном предке, испытывала благоговейный трепет. Мой прапрадед – военный священник! Какое странное сочетание слов. Священник, прошедший Первую мировую войну...
Позже, уже будучи студенткой калужского истфака, я узнала о его военных наградах. Отец Александр получил Георгиевский крест за свои заслуги, но за какие – никто пока не смог выяснить. Потом появилась информация и об ордене Св. Анны. О болезни и лечении в госпитале, о последующем возвращении на фронт уже священником 20-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. Ещё несколько лет спустя, переехав в Калининградскую область, узнала я и о том, что путь отца Александра в 1914-м году проходил не просто по той области, в которой я живу теперь – а по улицам, по которым каждый день хожу! Мне довелось прожить пару лет в посёлке Железнодорожный Правдинского района, который во времена службы моего прапрадеда носил название Гердауэн, и был городом, где состоялось крупное сражение в сентябре 1914 года. «И вот так же, как теперь служат в годовщину Гумбиннена и других сражений, – думала часто с тех пор я, – служил он панихиды по погибшим нашим солдатам и офицерам, отпевал их на поле сражения, а перед боем благословлял и напутствовал, и не оставался в стороне ни от каких тягот военного времени».
В 2000-х его внук, брат моей бабушки, Владимир Константинович всерьёз увлёкся историей семьи. Благодаря упорному труду и изучению многих документов в архивах, дедушка Вова смог восстановить практически всю историю жизни отца Александра и написал о нём книгу. Нашёл даже сведения о том, что прапрадед, как минимум один раз, лично встречался с императором Николаем II. Но меня по-прежнему больше всего интересовал другой вопрос, на который никто не мог бы дать ответа, кроме самого священника.
Передо мной была история человека, безусловно, незаурядного, сильной личности, смелого и искреннего служителя веры. История эта была сложной и трагической. Первая мировая закончилась для Российской империи революцией и сломом всех основ – всего того, чему принадлежал мой прапрадед и поколения его предков. Мир, частью которого был отец Александр, не просто перестал существовать – он был переломан и вместе с ним переломаны судьбы. Детям нужно было устраиваться в новом мире, и один из них, тот самый дед Костя, в чьём доме я проводила каникулы и выходные в школьные годы, стал коммунистом. А после, конечно, фронтовиком, и шёл практически тем же путём в 1945 году по Восточной Пруссии, каким шёл его отец в 1914-м. Но отец его давно уже был репрессирован, прошёл Соловки и умер в начале 1942-го в Нижнем Новгороде. Его потомкам не осталось даже могилы, куда могли бы мы прийти и задать свои вопросы: кладбище, где был похоронен Оделевский Александр Николаевич, в 1970-е сровняли с землёй и застроили... Его постаревшая, перенёсшая инсульт, жена доживала свой век в Подмосковье, вместе с дочерью. Сыновья разъехались по всей стране и долгие годы даже не поддерживали связь между собой. Его выбившийся в люди при новых условиях старший сын отвечал своему сыну на расспросы ребёнка о дедушке так: «Твой дедушка шёл зимой через Волгу, упал об лёд и умер. А на месте его могилы теперь Горьковское водохранилище». Это было всё, что долгие годы знали о военном священнике Русской императорской армии его потомки. Не осталось ничего, кроме каким-то чудом сохранившегося, безмолвного фотоальбома.
Сейчас даже через простой поиск в интернете легко можно найти информацию о послевоенных годах, аресте и приговоре суда. После Первой мировой Александр Николаевич работал в городе Юрьевце в конторе лесозаготовок. С 1922 по 1930 годы снова служил священником в нежитинском храме. 20 февраля 1930 года был арестован Кинешемским окружным отделом ОГПУ. Обвиняли Александра Николаевича в том, что он являлся участником церковно-торгашеской группы и вёл антиколхозную пропаганду. Осуждён по статье 58-10 УК РСФСР и отправлен в концлагерь на три года. Реабилитирован в марте 1989 года.
И я всё задавалась вопросом: «Почему он не уехал из России тогда, после Первой мировой? Почему не уехал после, в 1920-е? Что могло его держать в этой стране, где он лишился всего: веры, семьи, заслуг? Ведь он сознательно обрёк себя на путь репрессий, одиночества и забвения!» Долгие годы эта загадка была для меня неразрешимой. А ответ на мои вопросы был меж тем совершенно прост и ясен, как солнечный свет, проникающий в высокие окна русских храмов...
Ответ на мои вопросы пришёл ко мне сам, в феврале 2022 года, когда моя страна начала специальную военную операцию на Украине, и со всех сторон поднялись самые противоречивые волны человеческих слов и поступков. В первый же день я совершенно ясно поняла: у отца Александра не могло быть даже мысли о том, чтобы уехать из своей страны. Разве мог он, потомственный русский священник, сбежать куда-то, когда на долю его страны выпали испытания? Разве имело для него значение что-то земное и сиюминутное, пусть даже его собственная жизнь? Нет, отец Александр не потерял ни веры, ни страны, ни своей чести. Никогда русский воин и священник не мог бы отказаться от своей земли, от своего мира и бежать куда-то.
И сейчас, стоя в храме на панихиде, я думала о том, что отец Александр и другие, такие как он, сто лет назад не просто несли службу с честью – а передали потомкам великое светлое право и честь гордиться своими предками, верить в силу духа и Божью справедливость и обращаться к ним за благословением и помощью в трудную минуту.
В память об Оделевских Александре Николаевиче и Константине Александровиче в посёлке Железнодорожный Правдинского района установлен информационный стенд по программе «Дорогами русского солдата». В 2017 году вышла в свет книга «Мой дед – военный священник», написанная Оделевским Владимиром Константиновичем. Хранят память о нём и нежитинские краеведы и священники. Моя судьба позволила мне жить на той земле, по которой проходил мой прапрадед Александр Николаевич, но я надеюсь когда-нибудь посетить и сёла Тезино и Нежитино в Ивановской области и поклониться родным и незнакомым мне местам.
Автор: Ксения Семенова