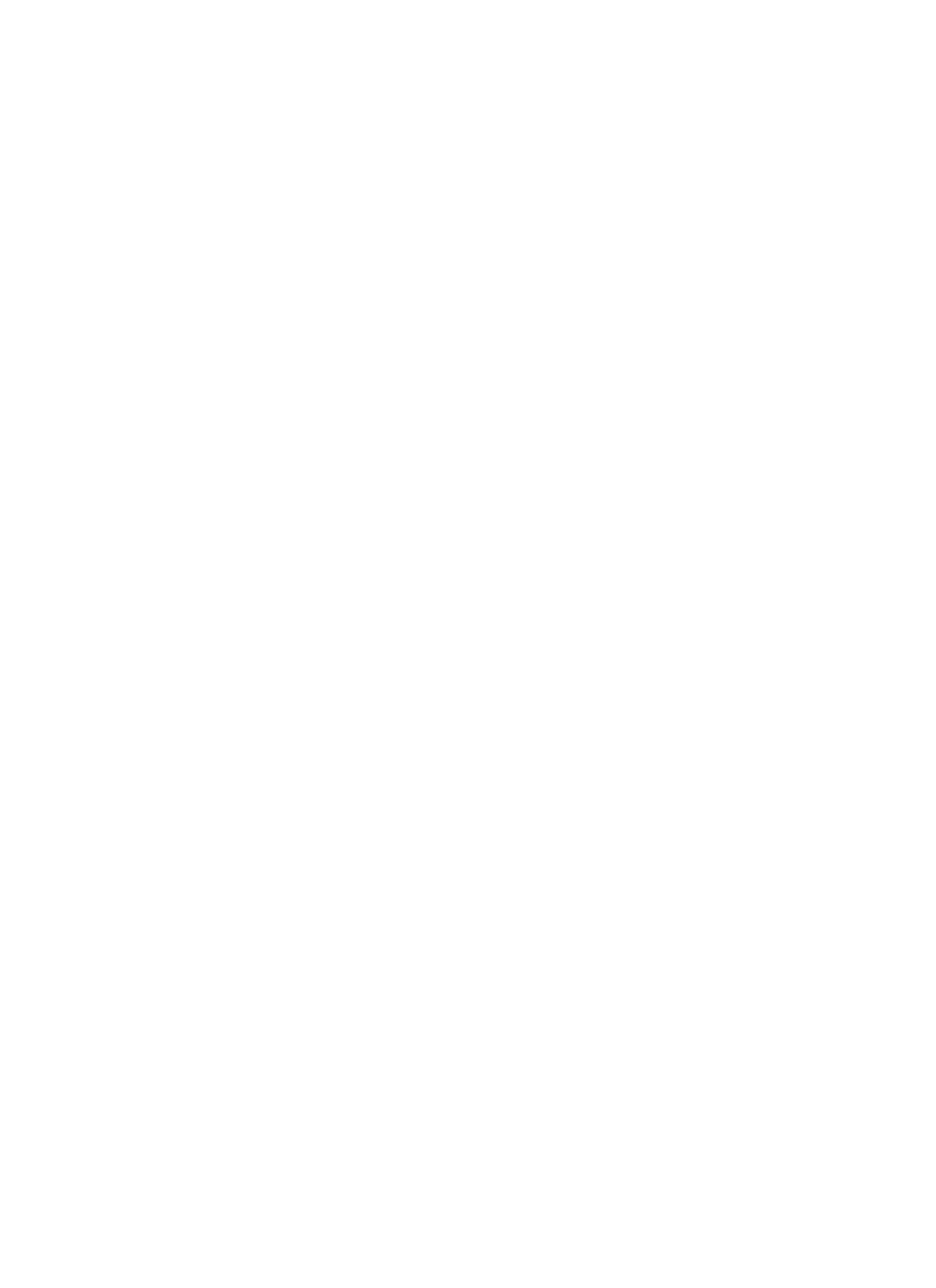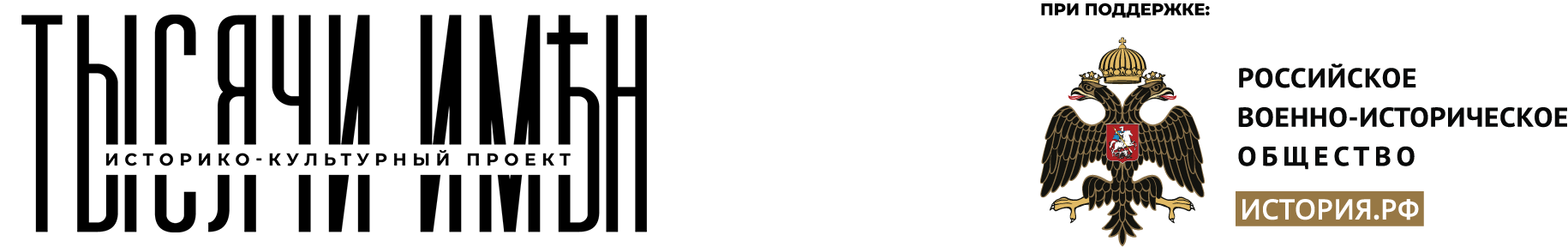Нажимая «ОК», я соглашаюсь на обработку cookie-файлов, необходимых для корректной работы сайта
Советский военачальник и государственный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена «Победа». Министр обороны СССР.
10 ноября 1898 — 31 марта 1967
ИСТОКИ СУДЬБЫ
«Как это было! Как совпало!
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..»
Давид Самойлов
Какой мерой считать их? Год за два? За три? За пять? А были, наверное, дни — или часы, или час, — которые зачтутся за десятилетие. Июльский день перед сдачей Ростова. Декабрьское утро на реке Мышкове, от которого война повела другой счет. Или ночь Карибского решения. Я не знаю, какие дни назвал бы он сам — эти или совсем другие… И об этом уже никто не узнает.
Я не спрашивала — он не рассказывал. Папа вообще был молчалив, а я слишком уж молода и не до той давней (a на самом деле слишком ещё близкой) войны мне было тогда, в двадцать лет — до памяти надо ещё дорасти... Это сейчас, спустя годы, я перебираю свои догадки, просеиваю то, что помню, ища золотые крупицы — мелочи, почти что пустяки, казалось бы, случайные фразы. Но ведь именно из мелочей складывается жизнь, и в ином пустяке куда больше характера, да и не меньше исторической правды, чем в строчках документа. В таких мелочах есть воздух времени — невосстановимый, исчезнувший вместе с теми, кто им дышал.
Помню, меня поразили два свидетельства. Одно — журналиста Александра Верта, описавшего встречу с отцом в канун Сталинградской победы, когда его армия — Вторая Гвардейская — уже сделала свое дело, не допустив прорыва окружения, но Паулюс ещё не сдался. Ощущение кануна, исторической значимости происходящего здесь и сейчас, было очевидно обоим, но Верт, пересказывая их беседу, мельком упоминает о том, что в тот вечер разговор зашел о боях Русского Экспедиционного корпуса в Шампани во время Первой мировой войны. Как странно!
Другое свидетельство я услышала от Евгения Борисовича Пастернака. Он вспоминал о том, что рассказывал его отцу Борису Леонидовичу Илья Эренбург, навестивший его после очередной поездки на фронт. То была поездка на Второй Украинский в августе 1944-го, когда там разворачивалась и блистательно завершалась Ясско-Кишиневская операция.
Когда настала передышка, Эренбург смог поговорить с командующим фронтом — с моим отцом. И вот что запомнилось Евгению Борисовичу, тогда еще мальчишке, из рассказа Эренбурга об этом: «Представьте, только-только поставлена точка еще на одной странице войны, победная точка: все сделано в точности так, как было задумано, и в те самые сроки — надо бы лучше, да нельзя! А мы весь вечер и всю ночь проговорили с командующим фронтом не об этом, а о Франции, о Париже, о Шампани».
Странно? Да. Значит, снова и снова отец мысленно возвращался к тем далеким годам, причем в обстоятельствах, казалось бы, не располагающих к мемуаристике, да и возраст у него ещё далеко не мемуарный, не говоря уж о деле, всепоглощающем и наитруднейшем деле тех дней. Почему же не отпускала его та — первая — память?
Ответ, я, кажется, знаю. Когда папа начал писать книгу, я, в ту пору школьница, спросила:
— А почему ты пишешь о той войне? Почему не об этой?
От этой меня отделяли всего семнадцать лет — мой возраст. И хотя я родилась уже после победы, война в восприятии моего поколения все ещё ощущалась вблизи. Остальные, давние войны, в том числе Гражданская и Первая мировая, тогда казались нам архивом, чуть ли не древней историей. (Знаю, что школьники новых времен воспринимают Великую Отечественную войну именно как архив, и понимаю, что это неизбежно, но как жаль живой человеческой памяти!)
На мое «почему» отец ответил неожиданно резко:
— Пускай врут без меня.
Сейчас я понимаю, что, по сути, он отвечал не мне. В тот год у него на столе лежал толстенный мемуарный том о Сталинградской битве, прочитанный самым внимательным образом, свидетельством чему восклицательные и вопросительные знаки на полях вперемежку с едкими маргиналиями. (Недавно я видела тот же переизданный том, преподносимый как долгожданное откровение, и в очередной раз подивилась вывертам отечественной истории.)
Отцовский ответ я запомнила, удивившись и непривычному тону, и продолжению:
— Правды об этой войне еще долго никто не напишет.
— Потому что не напечатают?
— Не только.
Он оказался прав и прав до сих пор, а, может, и навсегда. Больше вопросов я не задавала, а папа, помолчав, добавил:
—Начинать надо с начала. И до этой войны была война, война и война.
И он начал с начала — с первой памяти.
Была тому причина, хотя, может быть, и не самая главная — неосуществленное литературное призвание. Отец был захвачен новой работой, которой занимался урывками — по вечерам и в выходные. (Не могу себе представить, как это возможно — вернуться с работы, где, что ни день, то, условно говоря, Карибский кризис, и найти в себе силы сконцентрироваться на романе).
Одиннадцать толстых тетрадей, исписанных изящным, старинного склада почерком, совсем без помарок, настолько продуманным и выношенным было каждое слово. На первом листе дата — 4 декабря 1960 года; варианты предварительного названия — «Байстрюк», «Бастард» — и вверху пометка «Примерный план (набросок)». Последняя тетрадь была дописана осенью 1966 года. Окончательный вариант названия так и не появился: «Байстрюк» — всё же украинизм, а «Бастард» показался претенциозным. Вышла папина книга уже посмертно, под названием, которое дал ей Воениздат — «Солдаты России», а я бы назвала ее просто — «Первая память», что и позволила себе сделать.
Можно только гадать, как папа предполагал работать над текстом дальше, но ясно одно: сделанное он считал первым черновиком. В этом проявилась и естественная для него требовательность к себе, и в высшей степени ответственное отношение ко всякому, а на сей раз непривычному — литературному — труду. Он считал, что только начинает осваивать ремесло. И все же написанное — первый черновик — говорит о несомненных литературных способностях. Всякий раз, просматривая рукопись, еще не тронутую редакторской правкой, я поражаюсь своеобычному складу авторской речи. Приведу хотя бы один пример. И напомню, это Первая мировая, пейзаж после битвы:
«Взошла поздняя луна, большая и скорбная, и, горюя, повисла над горизонтом. И, кажется, оттого она печальна, что увидала изрытое воронками и окопами, обильно политое кровью поле, где убивали друг друга обезумевшие люди. Тихий печальный ветерок уносил с поля брани устоявшийся в ложбинках пороховой дымок, запах гари и крови. Молча обступили солдаты подъехавшую кухню, молча поужинали. Стрельба стихла, лишь вдалеке кое-где рвались снаряды. Санитары сновали по окопам, выносили на носилках тяжелораненых; полковые музыканты подбирали убитых. На повозках подвозили патроны, и на тех же повозках отправляли в тыл убитых — хоронить. Коротки весенние ночи. И едва рассеялся туман, артиллерийская канонада разбудила измученных, съежившихся от утреннего холода солдат, а земля снова задрожала от разрывов, снова затянулась дымом и пылью».
Литературное призвание дало о себе знать еще в юности, когда во Франции, в 1918 году, отвоевавший всю Первую мировую двадцатилетний георгиевский кавалер впервые, наверное, берется за перо и пишет пьесу. Но рассказ о ней впереди — прежде надо рассказать, как отец оказался в армии (а уж потом во Франции), и разобраться с причинами дерзновенного выбора жанра.
Думаю, взгляд на свою судьбу, как на чужую, дистанция между автором и героем и обусловленные ею свобода и отстраненность были нужны отцу, чтобы исследовать, как человек становится собой, и, одолевая обстоятельства, остается (если остается) человеком. Замысел романа, сюжетно повторявший его биографию со всей вереницей пограничных ситуаций, на которые был так щедр XX век, помогал понять, что в человеке от времени, что от других людей, что от своей воли, что от случая. Потому так важно было вглядеться в истоки, догадаться, чем начинается человек… Но прежде надо было прожить жизнь.
Отец успел написать только о детстве и юности — книга не завершена. Точку в ней поставила болезнь, оборвав сюжет возвращением из Франции, а это, в сущности, самое начало.
Книгу опубликовали в 1968-ом, посмертно, с минимальной редакторской правкой и названием, данным редакцией. А в 2016–м, она возвратилась к первоисточнику, на сей раз с моей, тоже минимальной редакторской правкой и без воениздатовских вставок идеологического свойства, в сопровождении фотографий — они есть, папа их сохранил. Мне кажется, отцовская книга и сегодня притягательна как человеческий документ — свидетельство сильной и одаренной натуры, инстинктивно раздвигающей рамки судьбы.
Уже не одни только обстоятельства диктовали судьбе — вмешалась своя воля, хотя разорвать замкнутый круг — скитания по чужим углам, нищенское, полуголодное существование — было пока не под силу. Но в то же время, еще не осознавая цели, он строил себя. И потому упорно тянулся к знаниям, которые не могли и не должны были ему пригодиться.
Зачем батраку с фольварка арифметика и чистописание, а мальчику на побегушках — французский язык (ведь отец, служа у купца в Одессе, брал уроки французского, а было ему тринадцать лет)? Наверно, есть в том и доля честолюбия, обостренного унизительным положением незаконнорожденного, и память о рано испытанных унижениях, но даже если ими и был рожден первый импульс, не в них одних дело: живой ум искал применения и требовал пищи, а упорство и азарт помогали одолевать препятствия.
Наверное, купцу, владельцу лавки, не хотелось расставаться с работящим и сообразительным парнишкой. Но все же не только случай определил новый и, как оказалось, главный поворот в отцовской судьбе. Безотчетное отвращение к торгашеской жизни, увиденной вблизи, помешало навсегда остаться в лавке.
В августе 1914 года отец решил записаться добровольцем и пойти на фронт, но его не взяли — по малолетству. Тогда он забрался в пустой товарный вагон, прицепленный к воинскому эшелону, затаился, но, естественно, был в конце концов обнаружен — на полпути к германскому фронту. Его собрались отправить домой, но, когда выяснилось, что ни семьи, ни дома у него нет, оставили — до первых боев: если не струсит, пускай служит, тогда и выдадим солдатскую книжку, а пока только обмундирование, тесак-бебут (кривой солдатский кинжал восточного вида) и тяжелую драгунскую винтовку без штыка. Так в 256-м Елизаветградском полку 64-й пехотной дивизии у пулеметчиков появился новый подносчик патронов.
Первый бой при форсировании Немана дивизия приняла 14 сентября, на Крестовоздвиженье, и после боя вместо неудобной винтовки старого образца отцу вручили карабин; оружие ему досталось от убитого товарища. «Поначалу, — говорил отец, — не понимаешь, что могут убить. Пока сам в первый раз не увидишь, как убивают. И забыть это нельзя».
Боялся он тогда, по его собственному признанию, только плена — потому что добровольцев расстреливали. Казалось бы, всё одно — погибнуть на поле боя или пойти под расстрел, но разница, нам недоступная, для солдата, видимо, непреложна.
Бегство на фронт разом разрешало все жизненные затруднения, но обязывало пройти весь воинский путь — возвращаться с полдороги отец не умел, а уходить уже научился. («Бесповоротному человеку и самому не сладко, и с ним нелегко, но положиться на него можно», — эти папины слова, сказанные по случайному поводу и безотносительно к себе, я запомнила, угадав в них автобиографию.) Так — бесповоротно — он стал военным человеком, а отвага, честолюбие, ум, привычка доводить всякое дело до блеска и, наконец, удача, не уберегшая от пули, но спасшая от плена, алжирских лагерей и от смерти, определили дальнейшее развитие событий. И все же первые шаги, наверное, дались труднее всего.
Миновала первая солдатская зима, отец стал уже наводчиком пулемета и успел отказаться от завидной должности связного при командире: «Не хочу быть холуем!»
—Он же тебя, дурака, поберечь хотел, — журили строптивого парнишку старые солдаты, — а теперь начальник зло на тебе вымещать будет.
И правда, капитан оказался злопамятен и стал донимать придирками. Только после того, как за бой у Сувалок чужой командир представил отца к Георгию, свой начальник немного поутих. Отца наградили (приказ от 14 июля 1915 года за № 223, параграф 4; номер 54850) и произвели в ефрейторы.
Вскоре его полк перебазировался к Сморгони. Те бои были такими тяжелыми, что солдаты перефразировали поговорку: «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал». В той мясорубке пришлось повоевать многим впоследствии знаменитым, а тогда еще молодым безвестным людям. Вот только несколько имен: подполковник Борис Шапошников, через двадцать лет ставший Маршалом Советского Союза, поручик Владимир Триандафиллов, впоследствии известный военный теоретик, капитан Александр Кутепов, в скором будущем белый генерал, и наконец штабс-капитан Михаил Зощенко — его слава ждала не на военном поприще.
В октябре 1915 года под Сморгонью отец был ранен. Когда они с подносчиком патронов ползком перетаскивали через поле пулемет, вблизи разорвалась бризантная граната. Два осколка в спине — в сантиметре от позвоночника, — третий пробил ногу вблизи коленного сустава. Лечение было долгим: операция в полевом госпитале — без наркоза, в полном сознании, с дикой болью; потом Ермаковский госпиталь в Москве, затем долечивание в Казани. По выздоровлении отца откомандировали в Ораниенбаум, где формировался запасной пулеметный полк.
Пока шла учеба, его назначили отделенным командиром — так у него появилось двадцать человек подчиненных. После экзамена лучших отобрали в Особую пулеметную команду, которую спешно перебазировали в Самару. Куда их пошлют, поначалу никто не знал. Оказалось — во Францию. Головокружительный поворот судьбы!
Никто не хотел ехать бог весть куда и зачем, но солдаты люди подневольные — приказ. Франция в восприятии солдат Первой мировой была овеяна памятью о 1812-м годе, когда их предки воевали с Бонапартом, и тем непонятнее звучали рассуждения о союзническом долге, который обязывал их воевать вместе с французами. Понятно одно: там они будут воевать тоже с немцами. Но почему во Франции, а не у своих границ, не понимал никто.
Дело же было в том, что, когда у русской армии обнаружилась катастрофическая нехватка снарядов, правительство обратилось к Франции с просьбой о помощи. Французы, припомнив заключенные в конце XIX века взаимные союзнические обязательства, предусматривавшие военную помощь в случае агрессии третьей страны, предложили России (у которой денег, как всегда, не нашлось) расплатиться за снаряды людьми. Ибо, как известно, наши людские запасы неисчерпаемы. Франция заявила о своей готовности поставить требуемое количество вооружения в обмен на 400 тысяч русских солдат, но сговорились на рассрочке — сорок тысяч солдат в месяц.
В начале нынешнего, ХХ1 века во Франции военный историк Жерар Горохов и историк русской эмиграции Андрей Корляков издали альбом фотографий, рассказывающий о русском Экспедиционном корпусе. Альбому предпослана статья (жаль, неподписанная), излагающая историю наших Особых бригад, начиная с межгосударственных переговоров на сей предмет. Там упомянуто и о требуемых 400 тысячах солдат, и о посланных сорока тысячах, и даже о боеприпасах, предоставленных французами, но о том, что люди были посланы воевать во Францию в качестве платы за оружие, не сказано ни слова. И только особо внимательный читатель, может быть, удивится: почему же договариваться об Экспедиционном корпусе в Россию вместе с министром юстиции едет министр боеприпасов Тома?
Альбому предпосланы также два предисловия. В первом князь Оболенский, сведя к двум абзацам драматическую историю наших войск во Франции, упоминает о том, что к концу 1917 года «достойнейшие из бойцов, верные своему долгу», дабы продолжать войну, образовали русскую часть французского Иностранного легиона «и тем спасли национальную честь». А Марина Грей-Деникина, автор второго предисловия, посвященного почти исключительно жизнеописанию действительно очень славного медвежонка Мишки, талисмана наших бригад, мельком упоминает о «неприятной развязке» в лагере Ла-Куртин: «Смутьянов быстро и почти без потерь разоружили их верные долгу товарищи, а Франция решила провести фильтрацию, в результате которой активисты-мятежники были высланы в Алжир».
Не комментируя «верность долгу» (хотелось бы понять, что имеется в виду: присяга, принесенная царю, или другая присяга – перепринесенная Временному правительству?), а также «минимальные потери» при расправе с восставшим лагерем, скажу лишь, что «ссылка» здесь — эвфемизм, заменяющий «концлагерь». Самый настоящий концлагерь, ни в чем не уступающий ни Освенциму, ни Майданеку.
За предисловиями следует краткий цитатник из маршала Фоша¸ восхищенного «бесконечной порядочностью русского царя (напомню, лично распорядившегося о «товарообмене»), и русским героизмом, явленным на французских полях сражений. Именно в таком порядке.
И только потом идут фотографии: парад, лагерь, окопы, поле боя после битвы, госпиталь и лица людей, которые воевали, мерзли и мокли в окопах и не знали, с готовностью позируя фотографу, последний это их снимок или еще случится пожить и повоевать. Лица, в которые нужно вглядеться…
Поначалу русский военный министр, ведший с французами переговоры о поставках вооружения в рамках вышеописанного «товарообмена», решил отказать — его шокировала моральная сторона проблемы, но вскоре понял, что деваться некуда, остается только скорректировать количество: 400 тысяч человек, конечно, нереально, но, тем не менее, вооружения нет, а воевать с Германией надо. И долг, согласно решению, принятому лично самодержцем и скрепленному его подписью, заплатили людьми — своего рода рецидив работорговли в XX веке.
Солдат для Франции отбирали особым образом, почти как в Кремлевский полк. Согласно специальному предписанию, необходимыми качествами считались:
1. безукоризненно славянская внешность без намеков на иное происхождение, а также «общая приятность облика»,
2. рост не ниже 175 см (по тем временам довольно высокий),
3. православное вероисповедание,
4. грамотность и достаточное общее развитие вкупе с отсутствием вредных привычек,
5. умение метко стрелять, знание военного дела, наличие наград и иных отличий по службе.
Французы не предполагали, что для них отберут лучших, они рассчитывали на необученных новобранцев, которых сами намеревались учить, а после использовать на тяжелых участках фронта, жалея свои войска, что, наверно, естественно. Так что первоклассное пополнение армии явилось для французского командования радостной неожиданностью. Россия в очередной раз удивила мир, но на сей раз качеством, а не количеством.
Марш же новоприбывших по улицам Марселя поразил галльское воображение. Незабываемое зрелище! Первый полк сформирован сплошь из блондинов с голубыми глазами, второй — из шатенов с серыми (на сей предмет тоже существовал особый приказ — какая предусмотрительность!). На солдатах новое, безукоризненно подогнанное по фигуре обмундирование, а в первой шеренге каждого полка по Марсельской набережной идут одни Георгиевские кавалеры. Естественно, ради такого случая бригадам придан первоклассный оркестр, но об инженерных и артиллерийских частях, наводя лоск, позаботиться забыли.
В Самаре солдат погрузили в поезд, отправлявшийся прямо в противоположную от Франции сторону: на Дальний Восток. Через всю Сибирь их везли зимой в нетопленых вагонах, на каждом надпись: «8 лошадей или 40 нижних чинов». Однако втиснуто «нижних чинов» в вагон было куда больше сорока. Но и это нелегкое путешествие показалось солдатам просто-таки раем в сравнении с тем, что ожидало их на море.
В Дайрене их ждал французский транспорт — два грузовых судна. Торжественное построение перед погрузкой 29 февраля 1916 года ознаменовалось примечательным событием. Командир 1-й бригады полковник Нечволодов произнес речь — естественно, в присутствии японских официальных лиц. Нечволодов — человек темпераментный, пылкий, недавнее поражение в Японской войне терзает его душу, и это в полной мере отразилось в речи. «Не забудем, братцы, — говорит он, — что этот город выстроили мы, русские, а не те «аборигены», что здесь обретаются сегодня. Все лучшее, что есть в этом городе, сделано нашими руками! Мы это помним. И мы сюда еще вернемся!». Ответом ему было громовое «ура!».
На всякий случай поясню: сказанное им имело смысл, тогда ясный всякому и каждому. Дайрен – японское название порта в заливе Даляньвань Жёлтого моря на южной оконечности полуострова Ляодун — Квантунском полуострове, современное название — Далянь. Под названием Дальний этот город был основан русскими в 1898 г. на месте китайского рыбацкого посёлка на территории, взятой в длительную аренду у Китая. Россия надеялась, что эта территория, уже называвшаяся, пока неофициально, Желтороссией, рано или поздно отойдет ей, однако Япония была слишком близко и явно нуждалась в расширении государственного пространства. Это и стала причиной Русско-японской войны. В 1904 г. город был взят японцами, а в августе 1945 г. освобождён советскими войсками. В 1945 — 1950 гг. город пребывал в статусе свободного китайского порта, арендованного СССР. В 1950 г. безвозмездно передан правительством СССР Китаю.
Слова Нечволодова сбылись. Через тридцать лет один из тех, к кому он тогда обращался, самый молодой ефрейтор 2-й бригады, уже во главе фронта вернется сюда и разгромит Квантунскую армию. Жаль, что об этом не узнал Михаил Дмитриевич Нечволодов, награжденный в Японскую войну золотым оружием «За храбрость», за бои при Обериве произведенный в генералы и кавалеры ордена Почетного Легиона, в 1945-ом — парижский таксист…
Судно, на котором плыл отец, называлось «Гималаи». Солдат поместили в трюме, а ведь была зима, в трюме лед, на стенах иней; они сильно мерзли, многие болели. Но когда суда вышли в южные моря, трюмы превратились в сковородки. Дорога во Францию оказалась мучительной, но солдаты — люди молодые, привычные к невзгодам и, в общем, безответные, умели радоваться даже малости, а ведь перед ними, пусть издали, открывался неведомый, удивительный мир южных земель.
В Сингапуре на два часа их отпустили в город — он поразил воображение так сильно, что забылись все тяготы путешествия. И ведь наверно, этот жаркий день и далекий южный город вспомнился отцу, когда через тридцать пять лет, в 1951-ом, 7 ноября он принимал парад в Москве, на Красной площади, на великолепном темно-рыжем коне с белой звездой и проточиной во лбу — коня звали Сингапур. Может, потому он его и выбрал, предпочтя Ставрикаю, Жару и Ростову? (Почему отец не выбрал коня по имени Ростов, я знаю, но это уже совсем другая война и другая история…)
Впечатлений от двух часов в Сингапуре солдатам хватило до самого Цейлона: «Одни рикши чего стоят — вот ведь дикость какая: на людях кататься!» А на Цейлоне начальству по неведомой причине вздумалось провести церемониальный марш при полном параде — «в первосрочном обмундировании», рассчитанном на русский климат. И туземцы потрясенно наблюдали, как идут строем по улицам Коломбо наши солдаты, распевая «Соловей, соловей, пташечка», а после кололи для них кокосы и поили изумленных северян кокосовым молоком.
Жара страшная — несколько человек от теплового удара потеряли сознание. Тут же появилась английская военная «Скорая помощь», из которой выскочили санитары в тропической форме: короткие светлые брючки, рубашки апаш с короткими рукавами, на голове пробковый шлем. (Это папе запомнилось и возымело отдаленные последствия: в 60-е годы, когда отец был министром обороны, он ввел похожую форму для наших южных округов. Но после его смерти легкую форму немедленно отменили, и все вернулось на круги своя.)
Путешествие длилось долго, почти три месяца. После Суэцкого канала солдат перегрузили с «Гималаев» на «Лютецию», огромный океанский корабль, изначально предназначенный для богатых путешественников и на время войны приспособленный для армейских нужд. Ради сохранности интерьерных красот все на корабле, даже стены, предусмотрительно затянули брезентом. Отцовскому подразделению досталось место в концертном зале, где солдаты спали вповалку возле белого рояля, а оставшийся до Марселя путь коротали за верчением дырок в брезенте, желая удостовериться, наборный паркет в зале или простой. Удостоверились — наборный, ореховый со всякими другими ценными вставками.
Средиземное море встретило наших солдат штормом и порядком помучило. Зато Марсель приветствовал их восторженно — так, словно они уже одержали победу. Гремели оркестры, толпа что-то радостно кричала, забрасывала их цветами, восхищалась строевым шагом, статью и красотой русских солдат. Нет, не зря сочиняли «Предписание об отборе в корпус» из пяти пунктов — неизгладимое впечатление на заграницу произвести удалось.
Весь день в городе поочередно звучали гимны — пламенная, летящая французская «Марсельеза» и тяжеловесное русское «Боже, царя храни». Это несообразное сочетание, как и гирлянды флажков — царского и республиканского, — запомнилось многим и стало первым в ряду ежедневно множащихся сравнений. Сравнений не в пользу отечества.
Но обнаружилось и сходство — в страсти к парадам. Первые два месяца в лагерях пришлось посвятить не изучению французского оружия, как предполагалось, а парадам по случаю визитов почетных гостей: то французский премьер-министр приедет полюбоваться их парадными упражнениями, то принц Черногории, то местный военный министр, то его зарубежные гости, то вице-министр, неизвестно чей заместитель и еще тьма-тьмущая тому подобных персонажей.
В довершение всего прибыл французский президент Раймон Пуанкаре в сопровождении русского посла Александра Петровича Извольского. Пуанкаре полюбовался парадом, восхитился статью и строевой выучкой русских солдат, а также наскоро сооруженной православной часовней, расписанной в рекордно короткие сроки специально для этого прибывшим художником Дмитрием Стеллецким, любимцем императрицы. Затем президент откушал солдатский обед и нашел его превосходным.
Отбывая, президент распорядился об участии русских частей в параде по случаю национального праздника в Париже. Одну из частей действительно послали на парад, остальные в том же июле приняли боевое крещение.
Корпус, вошедший в состав 4-й армии генерала Гуро, отправился на Шампанский фронт в район Мурмелон-ле-Гран.
Летом 1916-го года там разгорелись бои, и тогда французы, поразившись боевой выучке, выносливости и отваге русских солдат, восхитились ими уже не авансом, а за дело. Все, от французских начальников до солдат, с оттенком удивления отмечали привычную взаимовыручку в бою и бесшабашную удаль, что укрепило командование в намерении использовать русские войска на самых тяжелых участках фронта. Так и сделали — в итоге только в октябрьских боях 1916-го года наши бригады потеряли треть своего состава, а в январе 1917-го тяжелые потери причинила им газовая атака.
И, понимая, что собираю лишь крохи, складываю осколки растоптанного веком зеркала, я расскажу лишь о том, что удалось понять из скупых свидетельств — их писем, документов тех лет, фотографий.
Вот как, оказывается, они жили: окоп, хорошо, если полного профиля, с настилом из досок, и не осыпается. А блиндаж – вообще роскошь, и потому над входом красуется самодельная вывеска «Отель «Крокодил», украшенная изображением пресмыкающегося с разинутой пастью. Крокодила (вроде того, что служит логотипом «Lacoste») надо было придумать, нарисовать, а значит, художнику или маляру, а ныне солдату, пришлось вспомнить ремесло, озаботиться кистью, красками и гладкой доской для вывески, которая, оказалась нужна на фронте нисколько не меньше самого блиндажа…
Наверно, мне удалось разглядеть не самое главное — такие же пустяки, как вывеску с крокодилом, как вазу из какой-то артиллерийской железки, расписанную ромашками, — но, думается, и они помогают догадаться, какими были те люди в немыслимо тяжелых обстоятельствах, чем они жили и что помогало им выжить, что было им дорого, чему они радовались тогда, пусть мимолетно. О чем горевали на войне, понять, кажется, легче, но, может быть, только кажется…
В испанской философии такая переориентация называется микроисторией — это необходимая часть того, что Унамуно назвал интраисторией, противопоставив ее официальной историографии: перечню сражений, побед, поражений, коронаций и отречений. И прежде всего статистическим выкладкам с цифрами — такими огромными, что ни ощутить, ни представить их в реальности невозможно: исчисленное воспринимается отрешенно и тает в сознании, как пустой звук. А одна человеческая судьба — изломанная историей или выстоявшая, почти чудом, в силу природной живучести, юркого ума или просто счастливых обстоятельств, пусть на секунду, но соединит времена. Живой человек — тот, что вчера мерз в трюме, а сегодня, как ребенок, устроившись под белым роялем, любопытствует, что же там за паркет такой под брезентом; тот, что завтра, может, будет убит шальной пулей или разрывом снаряда, или отравлен газами, вот он — пока жив, радуется тому, что научился играть в футбол или в шахматы и, покуривая на лавочке у госпиталя, раздумывает, где бы взять костюмы для представления в самодеятельном театре.
Не цифры, не сводки, не фактография и не статистика, а только человек из другого времени своей судьбой свидетельствует об эпохе — о той жизни, что канула безвозвратно. История — в этой уникальной, единственной судьбе. В судьбе каждого из них, каждого из нас. Достаточно единожды это почувствовать, чтобы история обрела человеческое лицо, и перечень жертв перестал быть статистикой. Достаточно дневника Анны Франк, дневника Тани Савичевой.
А потому вернемся к тому, что не попадало ни в сводки, ни в реляции — к жизни на Шампанском фронте. Ведь и война, и плен — тоже жизнь, причем в пограничной ситуации в точном смысле слова.
Наши солдаты воевали храбро, но им приходилось много труднее, чем французам, и речь не о физических тяготах окопной жизни. Привычные к отечественной жестокости, во Франции наши солдаты увидели своими глазами другую армейскую жизнь, в которой, во-первых, не было титулования «ваше высокоблагородие». Обращение «мон женераль» («мой генерал») или «мой лейтенант» казалось им почти приятельским, чуть ли не задушевным. Восхищало и то, что у французов командир мог поздороваться с солдатом за руку и не имел привычки орать на солдата. Эти обыкновения, непредставимые среди родных осин, очаровывали, особенно поначалу, пока еще не обнаружились местные ручейки и пригорки.
Но главное, во французской армии не было мордобойцев. Надо уточнить: этот солдатский термин не имеет отношения к дедовщине, речь идет об обыкновении начальника бить подчиненного по поводу и без повода. (Однако на войне мордобойцы обычно присмиревали, помня, что пулю можно получить и от своих, такое нередко случалось.) Солдаты хорошо знали, кто из командиров нормальный человек, а кто — истерик и мордобоец. Во Франции, как оказалось, офицер, ударивший солдата, рисковал получить сдачи.
Помимо обыденного мордобойства в корпусе были в ходу и телесные наказания — шпицрутены. Введенные Петром и отмененные в 1864 году, особым приказом они, как и смертная казнь, были разрешены к применению в войсках Экспедиционного корпуса для укрепления дисциплины. В отцовской книге описан конкретный случай — подлинная история с настоящей фамилией и именем. Описана и сама экзекуция, и унизительная подготовка к ней: тот, кому назначены розги, накануне сам шел срезать их. Но кроме боли, унижения и иных моральных страданий, всем — и солдатам, вынужденным бить своего товарища, не говоря уже о нем самом, — было нестерпимо стыдно перед французами. Стыдно за отечество.
Тем временем отношения наших солдат с французскими солдатами и с крестьянами, жившими вблизи от лагеря, складывались самые добрые. Наших солдат полюбили. Французы еще долго потом вспоминали, какие забавные люди эти русские: «Словно большие дети! Медведя с собой привезли, играют с ним. Попросишь помочь — никогда не откажут. Детей любят — наших ребятишек конфетами угощают. Да еще и театр устроили при госпитале!»
Медведя Мишку офицеры невесть зачем купили по дороге во Францию — еще в Екатеринбурге, и ручной зверь, запечатленный на многих фотографиях, стал любимцем бригад и их своеобразным символом. Он, должно быть, немало способствовал распространению редкостно живучей мифологии относительно нашего национального пристрастия к медведям и россказням об их повсеместном обитании вплоть до Красной площади. Мишка вместе с солдатами кочевал по фронтам и тоже пострадал от газовой атаки в январе 1917 года, но врачи выходили его, назначив специальный рацион, а после войны зверя отдали парижскому зоопарку, где он, уже в полном благополучии, и дожил свою жизнь.
Правда, на идиллическом уровне отношения наших солдат с французами не удержались — слишком уж разные национальные характеры. С крестьянами общий язык находился легче, а городские французы относились к русским солдатам примерно так же, как к своему Иностранному легиону: «Дикие народы! Потому и воюют лучше цивилизованных». «Дикие народы» однако чувствовали такое, в лучшем случае покровительственно-снисходительное отношение, удивлялись прагматизму французов и все же перенимали то, что нравилось. И раз здесь принята приветливость в обращении и всякого ждет, к примеру, в кафе радушный прием, то можно и зайти, и раскланяться и, раз к тебе обращаются со всей учтивостью — «мосье» и «мерси» — заказать кофе, а не водку.
Чем же занимались солдаты, выздоравливая после ранений в госпиталях, или когда их отводили с фронта на отдых? Кстати сказать, одним из первых пожеланий, высказанных начальству по приезде, было устройство русской библиотеки — не зря же во Францию отбирали грамотных. Конечно, пока шли боевые действия, передышки были недолгими, и всё, что касалось солдатского досуга — театр, хор, шахматы и футбол, — в эти недели только зарождалось, а расцвета, скажем так, достигло уже после войны, в Плёре-на-Марне. Но до Плёра ещё надо было дожить.
Пожалуй, раньше всего возник хоровой кружок под руководством унтер-офицера Покровского. И это естественно. Почти в каждом полку русской армии помимо полкового оркестра был свой ансамбль народных инструментов с непременной балалайкой, гармошкой, гитарой и мандолиной и свои певцы. На одной из фотографий лагеря Майи запечатлен солдат с футляром для мандолины, на госпитальных фотографиях немало гитаристов, перебирающих струны.
Солдаты охотно записывались в хор, прилежно разучивали русские и украинские народные песни и даже кое-какие отрывки из опер и оперетт и с удовольствием давали концерты, на которые собирались не только сослуживцы, лишенные певческих талантов, но и французы со всей округи. В книге отец приводит репертуар солдатского хора: «Вечерний звон», «Розпрягайте, хлопцi, конi», «Закувала та сива зозуля», «Вырыта заступом яма глубокая», «Реве та стогне Днiпр широкий», «Вниз но матушке, по Волге».
Постепенно обнаруживались таланты — хор обзавелся солистами, не говоря уже о том, что руководитель хора Покровский, обладатель выразительного баса, всякий раз на концертах с чувством исполнял песню Варяжского гостя из оперы «Садко» и русские песни, в том числе свою любимую — «Есть на Волге утес». Коронным же его номером стало исполнение «Вечернего звона» под аккомпанемент хора, скрытого в кулисах. Специально для этой песни на сцене сооружали декорацию московского Кремля, а солист выходил в одежде странника с котомкой. Отец свидетельствует: «У Покровского была очень приятная, мягкая и густая октава, приводившая в восторг публику». Нашелся и свой тенор — хорист Большаков; публика с неизменным восторгом принимала арию Ленского «Куда, куда вы удалились...» в его исполнении.
Офицеры не принимали участия в концертах художественной самодеятельности (прошу прощения за термин советской эпохи), но, к примеру, капитан Первышин при всякой возможности ездил в Париж брать уроки пения у известного тенора Гийома Ибоса. (Другие ездили кутить, но рассказывать об этом незачем — эка невидаль. Оставим офицерские кутежи и солдатские попойки за кадром, как и тот прискорбный факт, что один из военных госпиталей пришлось сделать центром излечения венерических недугов. И вернемся к описанию иных времяпрепровождений.)
Как-то вдруг солдаты поголовно увлеклись шахматами. Энтузиасты готовы были целые дни просиживать за шахматной доской, причем, поначалу неправильно расставляли фигуры и ходили как бог на душу положит. Но нашелся среди солдат и настоящий знаток шахмат — Тюхтин-Яворский, человек в шахматном мире известный. В свое время газета «Русское слово» оповестила, что во время сеанса шахматной игры на двадцати досках в Английском клубе в Москве экс-чемпион мира Ласкер выиграл 18 партий, а две проиграл, причем обе гимназисту Тюхтину-Яворскому, шахматисту первой категории. (Первая категория в шахматах — довольно высокий разряд, его присваивают сильным игрокам со стажем не менее пяти лет.)
Тюхтин-Яворский охотно обучал шахматной игре всех желающих и организовал нечто вроде шахматного клуба. Самым прилежным среди его учеников стал отец. Он с восхищением описывает искусство Тюхтина-Яворского: «Как легко он играл вслепую — не глядя на доску! Офицеры часто приглашали Тюхтина-Яворского в офицерское собрание, где он демонстрировал свое искусство. Мастера отводили в отдельную комнату, даже завязывали платком глаза, и начиналась игра. Обычно против Тюхтина-Яворского играли все, кто хоть немного умел играть в шахматы, а он диктовал ответные ходы и легко всех обыгрывал, объявляя мат за матом».
К слову сказать, юношеское увлечение шахматами у отца с годами переросло в стойкую привязанность. Знатоки считают, что играл он на вполне профессиональном уровне, да и его шахматная библиотека свидетельствует, что её собирал не дилетант. Есть в ней, кстати, и том, посвященный мастерству Ботвинника, с дарственной надписью гроссмейстера. Когда папы не стало, мы с мамой передали эти книги Одесскому шахматному клубу — и бог весть, что с ними сталось...
Сколько себя помню, на отцовском столе лежала маленькая, с ладонь величиной, темно-вишневая коробочка. Раскрытая, она распадалась на два квадрата — шахматную доску с дырочками в каждой клетке, куда втыкались стерженьки крохотных фигур, и обтянутую малиновым бархатом крышку-корытце для ненужных фигур. Шахматная коробочка раскрывалась едва ли не каждый вечер: разбор партий и решение задач вошли в привычку, и только большой сибирский кот, считавший место на столе под лампой своим, позволял себе вмешиваться в этот молчаливый диалог с доской, трогая лапой фигурки или теребя желтый граненый карандаш фирмы «Фабер».
Папа любил разгадывать шахматные задачи, что печатались в «Красной звезде», и однажды под псевдонимом послал свое решение на конкурс. К удивлению редакции победитель в тот раз не откликнулся и не явился получать приз, но не отказал себе в удовольствии в разговоре с главным редактором «Красной звезды» генералом Макеевым одобрить рубрику и посоветовал усложнить задачи. Но я забежала слишком далеко — на полвека вперед…
Вернемся во Францию — на сей раз на футбольное поле на окраине Плёра. Земля эта принадлежала старику Пиньяру, у которого после роспуска Легиона квартировали солдаты и он, видно, вспомнив молодость и свое увлечение футболом, разрешил солдатам устроить там стадион. Соорудили ворота, правда без сеток, денег на которые не собрали, разметили штрафную площадку, центр и границы поля. Начали тренировки. Постепенно сложилась неплохая команда.
Не такая уж сильная, она, тем не менее, играя с французами, чаще всего выходила победительницей или, в худшем случае, сводила игру к ничьей. Как ни странно, французам не удалось победить ни разу. А ведь играли наши дилетанты и с молодежной командой из Фер-Шампенуаза (во второй раз разгромили её с фантастическим счетом — 11:0) и с сильной командой города Сезанн, которую победили просто-таки чудом. Изумленная случившимся команда Сезанна подарила русским сетки для ворот. Победили наши солдаты и команду летчиков из Шалон-сюр-Марн, пригласившую их на матч. И на чужом поле победили, и на своем. После второй победы последовал званый обед из русских блюд — и противники на футбольном поле подружились за праздничным столом.
Было у наших солдат ещё одно занятие: фехтование, которому их учили специально присланные французские инструкторы. Зачем учили, бог весть — неужели случалась от того польза в реальном бою? Ничего об этом, кроме самого факта, не знаю, но занятия по фехтованию были, и папа помнил, как называются фехтовальные приемы, мог показать и стойку, и выпад, и перевод, и объяснить, что такое батман и флешь-атака, и атака с финтами. А я, прилежная чтица «Трех мушкетеров», вникая в финты и батманы, и не подумала спросить, зачем их учили, да и вообще — ни о чем…
Но все же самым сильным увлечением, главным занятием солдат в дни долгожданного отдыха или вынужденного досуга в Плёре был самодеятельный театр. По благоволению старика Пиньяра, доброго гения наших солдат, театр расположился в бараке на окраине Плёра. Солдаты сами выбирали пьесы — да какие! «Власть тьмы», «Дни нашей жизни» Леонида Андреева, «Где тонко, там и рвется» Тургенева, что-то серьезное из Чехова (не знаю, к сожалению, что) и его сценку «Медведь».
Ну и, конечно, без водевиля в театральном репертуаре не обошлось. Поставили оперетту «Иванов Павел», о которой хочется рассказать особо. Впервые представленная в Петербурге весной 1915 года эта пьеска, сочиненная в соавторстве режиссером Мариинского театра Виктором Романовичем Раппапортом и комедийным актёром Степаном Николаевичем Надеждиным, с оглушительным успехом шла повсеместно до самой революции. Ее мгновенно разобрали на цитаты, а песенки напевали повсюду от мала до велика, но с особенным чувством — школяры, замученные экзаменами.
Соавторы назвали свое сочинение «фантастической оперой с провалами, превращениями и апофеозом», хотя публика, думаю, не обнаружила там ни метаморфоз, ни апофеоза, что же до «провалов», то выяснить, кто именно из действующих лиц проваливался в тартарары (то бишь в люк на сцене) установить не удалось.
Сюжет пьески незамысловат. Гимназист Иванов Павел, готовясь к экзамену, засыпает, упав головой на парту, и видит сон, в котором ему являются опостылевшие Науки (старые грымзы), и очаровательная девица Шпаргалка.
Ариозо Шпаргалки (на мотив «Мой миленький дружок, любезный пастушок») звучит так:
не выучил урок!
Тебя мне очень жалко,
на то я и Шпаргалка!
Шпаргалочку перебивает встревоженная маменька отрока, явившаяся, как тень отца Гамлета, с наставлением:
Даром время не теряй,
Не ленись, не отвлекайся,
И в носу не ковыряй!
Завершив наставление, Маменька удаляется, а незадачливый ученик, стряхивая дремоту, жалуется на судьбу:
ничего в них не понять,
просидел насквозь я брюки,
не в чем выйти погулять!
Алгебры не знаю,
русский позабыл,
а Закона Божьего
вовсе не учил!
Несчастный школяр засыпает снова, уткнувшись носом в учебник. И тут-то ему являются разнообразные Науки — одна за другой (за исключением Закона Божьего, который не антропоморфизируется вследствие цензурных ограничений). Старые ведьмы наперебой пристают к несчастному Павлуше с заданиями и поучениями.
нам по алгебре задачу:
сколько ведер из бассейна
можно выкачать портвейна?
География страшным голосом сообщает страшную новость:
протыкает нас насквозь!
Словесность ехидствует:
Буквы «ять», буквы «ять»?
Где и как ее писать, да!
Труден также твердый знак,
твердый знак, твердый знак,
не понять его никак, да, никак, да!
История, выдвигаясь на авансцену, злодейски допытывается:
был основан город Мекка?
А какие папиросы
курит Фридрих Барбаросса?!
Наконец неуемная Геометрия, выделывая курбеты, долженствующие иллюстрировать пропеваемые тезисы, оповещает человечество:
да штаны, да штаны,
во все стороны равны,
да равны, да!
Вот, собственно, ради этого куплета и хотелось поподробнее рассказать о пьеске про бедного Павлика. Вот, оказывается, откуда взялась присказка, существующая, кажется, со времен самого Пифагора и дошедшая до наших времен!
Не на шутку увлеченные театром солдаты сами играли роли, сами ставили, сами мастерили декорации. Барак на окраине Плёра в округе вскоре стали называть «Русским театром». Нашелся хороший художник — Борис Сахаров, окончивший Московское Строгановское художественное училище, у него появились ученики, и в результате к постановке «Дней нашей жизни» создали великолепную декорацию — вид на Москву с Воробьёвых гор, а для хора, к «Вечернему звону» — декорацию Кремля.
Поначалу доморощенные артисты задумались: где взять женщин на роли представительниц прекрасного пола? И встали в тупик. Собрались было пригласить француженок, но вовремя вспомнили, что спектакль идет на русском языке, которого мадмуазели не знают. И тут кто-то блеснул эрудицией, сообщив, что в Китае (не то в Японии), женщин вообще не допускают на сцену: все женские роли исполняют мужчины. Воодушевленные восточным примером, подобрали более-менее подходящих парней, обрядили их в женское платье, приладили шляпки — и дело пошло. Театр возглавил Виктор Дмитриевский, у которого обнаружился столь необходимый предприятию режиссерский талант.
Виктором Дмитриевским отец именует в романе Дмитрия Алексеевича Введенского, с которым был дружен. Кстати сказать, большая часть персонажей сохранила имена своих прототипов (родственники по матери, Гейдены, купец Припусков), но некоторые, в том числе главный герой, переименованы. Что до протагониста, то иначе и быть не могло, но почему и другие? Думаю, в каждом случае тому была своя причина.
Нетрудно догадаться, почему отец дал другое имя Д. А. Введенскому, с которым вместе вернулся из Франции и о дальнейшей судьбе которого ничего не знал. Вспомним Личный листок, заполняемый при приеме на работу все семьдесят лет советской жизни — кто знает, о чем умолчал, заполняя его, Дмитрий Алексеевич. И хотя, прошли годы — казалось бы, мало ли кто где и когда служил — отцу показалось естественным переименовать Дмитрия Алексеевича, чтобы невзначай ему не навредить.
А вот почему своего любимого командира в романе папа назвал Мачеком, а не его настоящим именем — Прачек, я не знаю. И, увы, ничего не знаю о том, как сложилась судьба этого замечательного человека.
Но вернемся в театр. Французы, в который раз удивившись русским причудам, помогли с реквизитом: принесли мебель, ширмы, большое зеркало, занавески, костюмы, в том числе женские платья. Тот, кто помог со сценическим антуражем, получал право на место в первом ряду. Самое почетное кресло отвели местному богачу, предоставившему для постановки пианино, на котором в спектакле «Где тонко, там и рвется» исполнителю роли Верочки пришлось сыграть сонату Клементи. И ведь Михаил Костин, до театра и не касавшийся клавиш, ее сыграл! Хоть как-то освоил игру на фортепиано под руководством поручика, знавшего нотную грамоту. Оба не пожалели ни времени ни сил — воистину охота пуще неволи.
Однако с настоящей пьесы, с большого спектакля самодеятельные артисты начать не решились. Первым представлением стали живые картины. Этот ныне забытый жанр требует пояснения. Живые картины, иначе называемые позами (или, на французский манер, аттитюдами), — это безмолвные пантомимические композиции, изображающие общеизвестные художественные произведения или же воображаемые картины или скульптуры. И если во Франции со времен Великой революции вошло в обыкновение представлять живые картины на сюжеты из античной истории, то в России в начале XX века чаще всего в аттитюдах являлась богиня Венера в сопровождении не менее очаровательной свиты.
По понятным причинам живые картины Плёра обратились к другим сюжетам. О них упомянуто в папиной книге. Первая картина «Соглядатай с лампой» представляла местного кюре, который неустанно следил за поведением русских солдат и, не понимая ни слова, на всякий случай подслушивал их разговоры. Вторая картина представляла предосудительное поведение воинов, встревожившее кюре: на сцену выходил солдат, весь обвешанный французскими баклажками, и застывал, простирая руку к дорожному указателю, гласившему «В Коннантр!» — именно там солдаты покупали дешевое вино. Завидев протагониста и вывеску, зал счастливо хохотал.
Возможно, эта живая картина и вдохновила рядового Калистратова на сочинение стиха, опубликованного местным изданием — «Шампанской военной газеткой»:
Раз сошлися вечерком,
Вспоминали про камрада:
«Скоро ль он придет с вином?»
Вот вдали он показался
Весь обвешанный вином,
До землянок лишь добрался
И пошел шнырять кругом.
Вмиг камрад расторговался,
Все распродал с барышом,
Восвояси он подался,
Сам веселый и с хмельком.
Рядом «Шампанская газетка» поместила плод раздумий поручика М. — его поэтический «Афоризм»::
Будь в жизни с хитростью знаком,
Но втайне можешь оставаться,
Как и родился — дураком.
Отец, один из энтузиастов театрального дела, играл роли, хоть и не главные, был помощником режиссера и суфлером, кроме того, как «грамотей» он переписывал для актеров их роли и помогал в них разобраться, если просили. А в конце концов сочинил пьесу — о них самих, русских солдатах во Франции. Ее даже начали репетировать, но до премьеры дело не дошло, да и не в постановке дело.
Тот текст, конечно, не сохранился, но любопытно, что папа вернулся к этому замыслу и уже в России, в 1920 году, тоже в госпитале, где выздоравливал после тифа, вновь взялся сочинять пьесу о восстании в лагере Ла-Куртин. И сохранил эту рукопись, не питая на её счет никаких литературных иллюзий.
Большая, in folio, тонкая разграфленная амбарная книга — сшитые толстой ниткой желто-зеленые страницы; выцветшие от времени, едва различимые лиловатые строки, слегка забирающие ввысь; тот же изящный, хорошо мне знакомый почерк старинного склада, но еще не строгий, а с каким-то лихим, щегольским разбегом. Эта неумелая, драматургически неуклюжая пьеса о русском солдате во Франции, пронизанная тоской по родине, горечью «чужой» войны и жаждой будущего, была дорога отцу, как память о юности.
От тех времен у отца не осталось почти ничего, и это не удивительно, но через три войны — гражданскую, испанскую и Вторую мировую — он пронес эту рукопись, солдатскую книжку пулеметчика 256-го Елисаветградского полка и несколько выцветших фотографий, в том числе парадную, с Георгиевским крестом, а еще — карманный французский письмовник с золотым обрезом в тисненой малиновой коже.
Судьба, и правда, далеко отбрасывает свои тени. И бог весть, из будущего или в будущее. Еще в Одессе, когда отец работал мальчиком на побегушках и снимал комнату, точнее, угол, он брал уроки французского языка у учительницы, жившей этажом выше. Поразительно! На что ему французский язык? Ему, по сути дела, беспризорнику, которому, казалось бы, прямая дорога в уголовный мир! Однако через два года он, уже во Франции, первым делом покупает себе словарик и письмовник, чтобы совершенствоваться в языке, и пытается освоить устную речь. Вскоре отец овладел языком настолько, что даже мог этим слегка зарабатывать.
Дело в том, что солдаты, в том числе русские, получали от незнакомых француженок (их называли марен де гер — marraines de guerre — воинскими крестными матерями) небольшие посылочки с табаком, кисетом, рукавицами или вязаными носками. К посылочкам прилагались письма, а иногда даже фотографии весьма миловидных дам. И, конечно, каждому хотелось прочесть, что там пишет неведомая марена, да и ответить на письмо.
Отец переводил для своих товарищей письма и писал ответы. А вскоре обзавелся первым в жизни фотоаппаратом «Кодаком» (благо денежное довольствие во Франции было много лучше, чем в России, — 32 франка 50 сантимов против здешних 75 копеек, а Георгиевским кавалерам полагалась еще и надбавка в 3 рубля). Но все равно «Кодак» для солдата — большая роскошь, а кроме того техника, требующая умения. Папа быстро научился снимать, и солдаты стали посылать маренам, а заодно и домой, в Россию, фотографии — не хуже тех, что делали в ателье. (Всякий раз, когда я вижу снимки солдат 2-й бригады, думаю — может, это он их фотографировал...)
С помощью письмовника отец заготовил несколько вариантов ответов: один, слогом попроще, для простых, сельских марен, другой — для городских, третий — для марен из высшего общества. Любопытно, что у многих солдат переписка с маренами продлилась до самого конца войны, а некоторых привела к свадьбе; женившись, они остались во Франции.
Поразительно, но и на этом витке судьба отбросила тень в будущее. Тот письмовник, который отец купил во Франции, был двуязычный: франко-испанский. Он пригодился ему ровно через двадцать лет, когда в 1936 году отец отправился (заметьте — через Париж) в Мадрид советником испанской республиканской армии. И уже через два месяца смог обходиться без переводчика.
Я и сейчас иногда открываю этот письмовник — и не просто затем, чтобы прикоснуться к чуть желтоватым страницам 1893 года издания. Он бывает полезен и мне — для особо почтительных официальных писем, в которые как нельзя кстати вставляется витиеватый, старинного склада оборот. Вот ведь какая долгая тень — дольше века...
И не удивительно, что 1 мая 1917 года солдаты вышли на демонстрацию с красными знаменами, пеньем «Марсельезы» и лозунгом Великой французской революции, не утратившим своего обаяния и по сей день. Он повторялся на транспарантах в самых разных вариациях, хоть и не всегда грамматически верно: «Да здравствует Соцiалистическая Риспублика!», «Свобода, Россия, Социализм!», «Свобода, Право, Закон», «Свобода, Земля, Народная воля». И как-то странно и сиротливо выглядел в этом соседстве единственный транспарант по-французски: «La guеrre jusqu a la victoire final» («Война до победного конца!»), однако в ту весну лозунги еще соседствовали мирно, как и их носители. Издали революция казалась особенно прекрасной, а будущее — лучезарным. И никто в этой толпе, полной надежд, не хотел слушать увещеваний генерала Палицина, уныло призывавшего исполнять приказы Временного правительства. Под пенье «Интернационала» генералу пришлось удалиться ни с чем.
Помня об ореоле, в котором представала в ту весну русская революция и о неудачах на французском фронте, переполнивших чашу солдатского терпения, не стоит сбрасывать со счетов и влияние русских политических эмигрантов, в изрядном количестве осевших во Франции. Они неустанно общались с солдатами, в первую очередь с теми, кто лежал в госпиталях или выздоравливал, — обычно после госпиталя солдат отправляли на краткий отдых в Ниццу, излюбленное место обитания нашей эмиграции во все времена.
Следствием такого общения стала возможность читать издания, выходившие заграницей, в том числе журналы самого разного толка: социалистические, большевистские и вдохновленные идеями Троцкого. Не успевали закрыть его «Новое слово», как начинала выходить его же «Мысль», а по закрытии «Мысли» появлялась троцкистская «Жизнь». Этим газетам в отличие от «Военной газеты», издаваемой «Комитетом друзей русского солдата», хоть и не до конца, но верили, а в официально распространяемом «Русском солдате-гражданине», да и во французских газетах, привычно сомневались. Так что политэмигранты, обосновавшиеся в средиземноморье, могли убедиться: их агитационно-просветительские труды не пропали даром.
В какую картину складывалась эта идейная мозаика в головах наших солдат на чужбине, даже и представить невозможно, но понятно одно: революцию они восприняли не только как переворот всей социальной структуры, но и как импульс духовного перерождения.
Об этом свидетельствует Илья Эренбург: «Появилась жажда книг, стремление к хорошей чистой жизни. Какая-то огромная работа происходила внутри серых темных людей. Впервые что-то закопошилось в их не привыкших к мышлению мозгах». Он приводит слова одного из солдат: «Потому что тьму в нас держали, не выпускали наружу. А теперь исходит она из меня. Будто и не жил я прежде». Поразительное признание! И как прекрасно рожденное им чувство просветленной любви ко всем вокруг, называемое братством, и готовность простить всех, в том числе врагов и даже вчерашних мордобойцев: «Нам их простить легче. Не мы били, а они нас». Может, это и есть свобода, и только так и тогда — на заре революции — ее можно ощутить?..
На одной из фотографий, снятых в Ницце, отец запечатлен в группе солдат-отпускников вместе с русскими политэмигрантами, наверняка людьми весьма примечательных биографий (в том, кто есть кто, еще предстоит разобраться).
Дело в том, что в Ницце было несколько пансионов, так называемых «солдатских очагов» («Le foyer du soldat»). Русский пансион «Родной угол», расположенный на живописном морском берегу, содержала эмигрантка Мария Михайловна Соболева, славившаяся своим гостеприимством, радушием и готовностью помочь. Под ее кровом поправляли здоровье солдаты-отпускники и собирались русские, эмигрировавшие задолго до войны и чаще всего по политическим причинам. Поговаривали, что бывал там в свое время и Герцен. Возвращаясь в часть, солдаты обычно фотографировались на крыльце пансиона вместе Марией Михайловной.
Мария Михайловна, женщина не только добрая, но и образованная и ориентированная самым прогрессивным образом, устраивала у себя в пансионе разного рода культурные программы: концерты, лекции, диспуты сменяли друг друга, а с лета 1917 г. Соболева начала издавать газету, своего рода дайджест под названием «Русские вести. (Переводы из газет)». В газете она была всем сразу: и редактором, и переводчиком с четырех языков, и машинисткой. Довольно скоро издание полюбилось народу и обогатилось рубрикой «Письма читателей», а также взялось печатать стихи, карикатуры и короткие рассказы, присланные в редакцию.
«Русские вести» просуществовали довольно долго для самодеятельной газеты — до января 1919 года (всего вышло 102 номера) и угасли вместе с энтузиазмом Марии Михайловны, уже довольно пожилой женщины. Но не столько возраст и душевная усталость были причиной угасания этого культурного очага. После Октябрьской революции «Родной угол» принял сторону ее противников, там стали собираться в основном сторонники партий монархистского толка, да и русских солдат к тому времени в Ницце уже почти не осталось. Но пока, в 1917 году, время надежд ещё длится: жизнь кипит и в Ницце, и в корпусе.
В русской армии вследствие Февральской революции возникло беспрецедентное новшество: стали создаваться солдатские комитеты. Возникли они и в наших бригадах во Франции. Представьте, как упоительно было после муштры и мордобойства, узнать, к примеру, что «благородием» офицеров именовать уже не надо, а командир отныне не имеет права отдать приказ без ведома и согласия солдатского комитета и не вправе даже носить оружие без их позволения! (Не будем сейчас рассуждать о том, во что превращается армия, лишенная командиров. В пылу преобразований не до прозорливости.)
Но тут уже французские командиры забеспокоились, предвидя пагубное влияние русских нововведений на своих солдат. Тем более что и во французской армии после «бойни Нивеля» тоже начались брожения, и командование применило к бунтарям силу — вплоть до казней.
От наших солдат еще до весеннего наступления потребовали присягнуть Временному правительству (присяга была принесена 29 марта 1917 года), причем большинством солдат только гражданская, а не церковная. Далее последовал приказ от Временного правительства продолжать войну до победного конца, но солдаты отказались его выполнять, настаивая на возвращении. Последовал новый приказ: сдать оружие и перебазироваться на греческий фронт, в Салоники.
Выдвинутое нашими солдатами требование вернуть их на родину Временное правительство поначалу вообще оставило без внимания, а при повторном запросе отказало, сославшись на отсутствие транспорта для перевозки. У французов транспорта тоже не нашлось, вероятнее всего по той причине, что их армия по-прежнему нуждалась в наших бригадах как в первоклассной боевой единице. Однако требование возвращения не стихало, и в итоге, после провала апрельского наступления корпус отвели с фронта и разместили в лагере Ла-Куртин, тем самым изолировав опасный для французов элемент.
Летом в Ла-Куртине собралось около 16 тысяч человек. Власть в лагере взял солдатский комитет во главе с решительным и непреклонным Афанасием Глобой. Общее собрание тем не менее приняло не самую радикальную резолюцию: в последний раз участвовать в наступлении, а после непременно возвращаться в Россию.
К этому времени французская заинтересованность в наших войсках угасла, а тратиться на транспорт Франция не сочла возможным. Временное правительство не уставало слать в Ла-Куртин своих эмиссаров, надеясь вразумить солдат: привести к повиновению и вернуть на фронт. Но ни в коем случае не возвращать в Россию — «где и своих бунтарей хватает».
Солдаты твердо стояли на своем: или возвращаться домой, или повоевать еще немного здесь, но под началом французов, а не своих командиров, которым «было отказано в доверии». В Салоники не хотел ехать никто, даже готовые покориться приказу воевать до победы. И все же разногласия накаляли обстановку и во избежание распространения смуты солдат, согласных продолжать войну, отделили от лакуртинских мятежников и перевели в лагерь Курно. Туда же ушел весь офицерский корпус.
Предвидя последствия раскола, французы наотрез отказались брать бригады под свою команду и тем более отправлять их на фронт. Они все настойчивее требовали, чтобы «русские сами разобрались с русскими».
Французскому командованию, и правда, не подобало применять дисциплинарные меры к тем, кто уже год героически воевал за Францию. Однако это не помешало до предела урезать довольствие — в Ла-Куртине начинался голод, и солдаты стали добывать себе пропитание в окрестностях лагеря не самым достойным путем, что сильно испортило их репутацию и отношения с местным населением. Многие из-за голода уходили в Курно. Солдатскому комитету становилось все труднее поддерживать дисциплину. Полуголодное существование в окруженном лагере, беспросветная скука, неопределенное будущее и не отпускающая тревога измучили солдат: началось пьянство, игра в карты. От них солдат отвлекали только митинги. При виде этой неприглядной картины французское командование все настойчивее требовало от русского решительных мер по усмирению бунтовщиков.
Генерал Занкевич, командующий корпусом, донес Временному правительству, что не имеет сил привести к повиновению солдат лагеря Ла-Куртин, и располагает властью лишь над теми, кто лагере Курно. Керенский приказал Занкевичу «любой ценой привести бунтовщиков к повиновению». Генерал в особом приказе объявил лакуртинцев изменниками родины и бунтовщиками и пригрозил самыми суровыми карательными мерами. Поначалу только пригрозил: 1 августа в Ла Куртин был послан ультиматум, предписывающий сдать оружие. 4 августа французские войска окружили лагерь. Затем подошли покорные правительству части под командованием полковника Готуа, готовые применить силу.
В сентябре в Ла-Куртине вспыхнуло восстание, спровоцированное голодом и тем, что солдат фактически содержали, как пленных. Гимном восставших стала «Марсельеза». Войска оцепили лагерь и в конце концов с восставшими расправились самым жестоким образом, даже с применением артиллерии, — расправились свои же: курновцы стали стрелять по своим боевым товарищам. Так — за пределами отечества — началась русская Гражданская война.
Лакуртинцы, получив ультиматум, до последнего не верили, что в них будут стрелять свои. Умом понимали, что так и будет, но поверить не могли. Решили, если начнется штурм, не сдаваться без боя.
У них оставалась ночь. И тогда на лагерной площади при свете факелов в последний раз они сыграли спектакль самодеятельного театра. Пьеса, которую они выбрали для прощального спектакля, была написана солдатом, куртинцем, и рассказывала о них самих и о восстании в лагере, с той лишь разницей, что у нее был счастливый конец…
После спектакля заседал отрядный комитет. Наутро решили собрать общелагерный митинг, чтобы продемонстрировать единодушную готовность бороться. И принять бой.
В 10 часов истекал срок, указанный в ультиматуме. На площадь вышли с красными знаменами, с оркестром и революционными песнями. Впереди колонн шли члены солдатских комитетов. Пели «Марсельезу» а затем, всё зная наперед, полковой оркестр заиграл шопеновский похоронный марш.
18 сентября отряд Готуа занял Ла-Куртин. Убитых наскоро похоронили, раненых увезли в госпиталь, остальных, в том числе членов лагерного комитета во главе с Глобой, арестовали. И начались разбирательства…
Нельзя догадаться, как именно спасет тебя судьба, если уж ей вздумается спасти. На сей раз судьба спасла тяжелораненых, надолго укрыв их в госпитале.
А тех лагерных смутьянов, что остались невредимы, ждала тюрьма на острове Экс — худшая из возможных, предназначенная для дезертиров. Карцер на Эксе свидетельствовал об особой изобретательности надзирателей: он помещался в трюмах барж, прицепленных вблизи берега, где к холоду и голоду добавлялась еще и качка — постоянная морская болезнь. Но и этого французскому военному правосудию показалось мало. Из островной тюрьмы заключенных отправили в Алжир — в концентрационные лагеря, предварительно предложив тем, кто не числился «отпетыми активистами», на выбор три варианта так называемой свободы:
1. очень тяжелую, практически каторжную работу почти без оплаты в каменоломнях или
2. записаться в Иностранный Легион, где все-таки платят, и снова отправляться на фронт,
3. или, по доброй воле, отбывать срок в Алжире — в лагерях.
Французов потрясло, что многие выбрали Алжир. Почему?!! Да потому, что наши солдаты понятия не имели, что их там ждет. И еще потому, что Алжир — это авантюра, путешествие, неведомая страна, Африка! Все лучше, чем карцер в трюме. И, чем черт не шутит, может, оттуда легче будет добраться домой? А домой стремились очень сильно. Солдаты уже слышали про мир без аннексий и контрибуций и про землю без выкупа. И, естественно, боялись, что землю поделят без них.
Только очутившись в Алжире, они поняли, на что себя обрекли. И тогда им снова предложили выбор: на сей раз между алжирской каторгой и Иностранным Легионом.
В Алжир выслали примерно девять тысяч человек. Меньше тысячи вернулось через Иностранный Легион.
Там, в концлагере у Атласских гор, и была сложена эта песня:
трещал французский пулемет?
А там, за боем, на опушке,
сидел Занкевич-идиот.
Среди песков, вдали от мира,
в кругу угрюмых дикарей,
питаясь рисом из Алжира,
страдают тысячи людей.
Свирепый взгляд охраны дикой,
гроза — начальник молодой,
и пулемет араба с пикой
всегда мы видим пред собой.
Так отбывали наказанье
сыны России молодой
в далекой Африке, в изгнаньи,
за клич души: «Войну долой!»
Все, кому посчастливилось выжить во французских концлагерях (а их единицы), свидетельствуют: если есть на земле ад, то он там, куда выслали мятежных лакуртинцев.
Вот от чего судьба спасла отца, ранив разрывной пулей в руку. В госпитале он пробыл долго, а, когда вышел, никаких вариантов, кроме каменоломен и Легиона, не оставалось. В автобиографии отец писал, что работал в каменоломнях, хотя мне сомнительно: он ведь довольно рано записался в Иностранный легион, о службе в котором потом долго умалчивал. Но солдатскую книжку Легиона он тем не менее сохранил и сам отдал ее вместе с книжкой Елизаветградского полка в Музей Вооруженных сил, правда, уже в безопасные шестидесятые годы.
Надо сказать, что в Личных листках — анкетах, которые помнят все, кто работал при советской жизни, — среди прочих вопросов вплоть до семидесятых годов был и такой: «Служили ли вы в Белой армии, а также в армиях других государств?» Формулировка не оставляла сомнений: служба в Белой армии и в армии любого иностранного государства — равноподозрительные деяния. Но дело даже не в анкетной формулировке.
Если служба в Экспедиционном корпусе в принципе не считалась криминалом — там служили по призыву, то с Иностранным легионом, куда поступали добровольно, дело обстояло иначе. Позиция Советского правительства по этому вопросу четко изложена в прокламации, распространявшейся среди русских войск во Франции. Там говорилось:
«В настоящее время французские войска выступили с враждебными действиями против революционной Российской республики. Следовательно, русские солдаты, став солдатами Легиона, косвенно принимают участие и в войне Франции против революционной России.
Совет народных комиссаров призывает всех русских солдат всеми способами противиться записи во французскую армию, а добровольно поступающих в Легион Совет народных комиссаров объявляет врагами республики и революции».
Прокламация подписана Лениным, наркомом по иностранным делам Чичериным и управляющим делами СНК РСФСР Бонч-Бруевичем.
И, естественно, отец, в подробностях описывая в автобиографиях, прилагавшихся к Личному листку, все перипетии своей службы в корпусе, об Иностранном легионе — помня определение «враг республики и революции» — не упоминал. Коротко извещал: «После госпиталя и до возвращения в Россию в 1919 году работал в каменоломнях». Впервые о службе в Легионе сказано только в автобиографии, написанной в 1948 году, видимо, потому, что во французской печати (в связи с награждением отца орденом Почетного легиона в 1945-ом) проскользнули сведения о том, что он был в Иностранном Легионе.
А сослуживцы отца, вернувшиеся на родину, не упоминали на всякий случай и о корпусе — пребывание за границей, мягко говоря, не украшало биографию, хотя первую группу солдат, возвратившихся из Франции, принял в Кремле Ленин.
По этой причине русских солдат, записавшихся в Легион, обязали носить французскую форму, тем не менее украшенную (для сведенья врага, что ли?) шевроном-триколором на рукаве гимнастерки с буквами LR — Legion Russe, Русский легион. В случае плена этот знак обрекал на расстрел.
Итак, отец стал капралом французской армии, приписанным к Марокканской дивизии Иностранного легиона. Я долго не могла понять, что это за значок он хранит у себя в столе — круглая жестянка, на ней выбит профиль довольно злодейского вида в чалме и по кругу надпись по-французски: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Оказывается, это жетон Марокканской дивизии.
Марокканская дивизия была самой сильной боевой единицей Иностранного Легиона, неизменно приводившей в трепет противника. Французское командование очень ценило ее как ударную силу и не щадило. Африканцы, составлявшие в ней большинство, искренне убежденные, что всякий погибающий в бою прямиком отправляется в райские кущи, не знали страха. Зато немцы боялись их смертельно. Русские солдаты, которыми пополнили Легион, исключительно из чистого азарта, не надеясь на райские кущи, решили не уступать берберам первенство и вскоре доказали свою решимость делом.
Иностранный Легион, по свидетельству отца, отличало обостренное чувство солдатского братства — братства обреченных. Они знали: туда, куда пошлют их, не пошлют никого – пожалеют.
Бои, которые вела Марокканская дивизия, оказались еще тяжелее, чем те, что выпали на долю Экспедиционного корпуса. Тяжелее всего пришлось летом и осенью 1918 года после захвата противником Суассона и при прорыве линии Гинденбурга. Тогда положение спас русский батальон Марокканской дивизии, и с тех пор эту часть стали называть Легионом чести — Русским легионом чести.
Одновременно с награждением вторым французским Военным крестом пошло по инстанциям представление отца к Георгиевскому кресту 3-й степени. Цитирую представление:
«В бою 14 сентября 1918 года при прорыве линии Гиндербурга ефрейтор Р. Малиновский личным примером храбрости, командуя взводом пулеметов, увлек за собой людей, прорвал в промежутке между укрепленными гнездами противника, утвердился там с пулеметом, чем способствовал решительному успеху по овладению сильно укрепленной траншеи 3-й линии».
Знал ли отец об этом представлении? Думаю, знал, хотя второй Георгиевский крест получить не успел — приказ о награждении генерал Щербачев, представитель Колчака за рубежом, подписал 4 сентября 1919 года, когда отец уже покинул Францию.
Награда от Колчака требует пояснений.
Когда началась Гражданская война, в Белой армии прекратились представления к Георгию — за братоубийство такую награду давать не сочли возможным. И Георгиями стали награждать лишь тех, кто воевал на немецком фронте в армиях других государств — тех самых нонкомбатантов. Награждали их, конечно, не только за проявленный героизм, но и с надеждой в скором времени пополнить Георгиевскими кавалерами ряды Белой армии.
Представление отца к Георгию сохранилось в Колчаковском архиве, который после долгих перипетий в итоге оказался в Братиславе, и в 1945-ом, когда войска отцовского фронта освободили Словакию, был вывезен в Москву, где мертвым грузом пролежал полвека. Никто — ни исследователи, ни надзирающие органы — не полюбопытствовали за эти годы содержимым белогвардейского архива, а когда настали новые времена, его и подавно никто не открыл, но тут-то Ельцин широким жестом распорядился о реституции. Вопрос о том, кому возвращать архив, впрямую относящийся к русской истории, даже и не возник: его собрались возвращать.
Светлана Сергеевна Попова, историк-архивист, готовя архив к передаче и просматривая документы, заметила известную фамилию, сняла для себя копию наградной бумаги, да и забыла о ней, полагая, что это лишь подтверждение известного факта. А спустя годы на просмотре фильма Сергея Зайцева «Они погибли за Францию» вспомнила и укорила режиссера в недобросовестности: «Почему вы говорите об одном Георгиевском кресте? У Малиновского их два!» И режиссер, человек в высшей степени добросовестный, и я, при сем присутствовавшая, услышав вопрос, буквально лишились дара речи: «Откуда второй Георгий?». На другой день Светлана Сергеевна прислала мне копию представления, и так, спустя семьдесят лет «награда нашла героя».
Как предусмотрительна оказалась судьба и на этот раз! Легко представить себе дальнейшее развитие событий, случись этому документу обнаружиться на исходе гражданской войны или году в 1937-м, да и позже, а мои шансы появиться на свет в таком случае вообще свелись бы к нулю...
При поступлении в Легион, отец подписал контракт с ограничением срока — только до победы над Германией. Хотя условия контракта на определенное число лет (три или пять) были много выгоднее и давали право на получение французского гражданства сразу по окончании срока.
Служба во французской армии кончилась для него торжественно — участием в Параде победы. В тот день, день Победы в Великой войне, как её когда-то называли и до сих пор называют во Франции, 11 ноября 1918 года отец прошел по Вормсу в парадном строю. Парад совпал с его днем рождения (если считать по старому стилю). Отцу исполнилось двадцать лет и за плечами остались четыре года войны, а на груди — Георгиевский крест и три французские награды. Наверно, только у него в жизни было два Парада победы — на втором, 24 июня 1945 года, он вел по Красной площади Второй Украинский фронт. Не знаю другой такой судьбы.
Я не знаю причины, но ради добросовестности упомяну об одной истории. Еще на польском фронте, в 1915 году, когда папа был ранен и лежал в госпитале, цыганка-гадалка, предсказала ему (может, и не ему одному), головокружительную судьбу — маршальский жезл и высший военный пост у себя на родине — и предупредила: «Не начинай нового дела, не отправляйся в путь в пятницу. Дурной для тебя день». Поначалу он не обратил внимания на предостережение и, уж конечно, не принял всерьез пророчеств, но после второго ранения (оба — в пятницу, как и третье, тридцать лет спустя) взял за правило смотреть в календарь, назначая начало операций или планируя командировки. Но пятницы из недели не выкинешь — все худшее с ним (а потом и с мамой, и со мной) неизбежно случалось в пятницу. Пятницей был и последний день папиной жизни — 31 марта 1967 года.
Не думаю, что цыганкино пророчество подтолкнуло его к возвращению, и все же жалею, что не спросила — почему он тогда вернулся? Он ведь и из Испании, пробыв там три командировочных срока, вернулся после последнего грозного предупреждения: «Возвращаться немедленно таким-то транспортом в сопровождении такого-то лица. В противном случае считаем невозвращенцем». Чистым безумием было возвращаться после такого приказа — почти что приговора, уже зная, что происходит на родине. А он вернулся, конечно же, сознавая, что рискует свободой и жизнью. Почему?
Отплывали из Марселя на «Луаре». И снова долгий, длиной в два месяца, тот же самый путь через Суэц и далее вокруг Азии: снова Коломбо и Сингапур, двухнедельная задержка в Сайгоне — «какая любопытная там жизнь!» — и, наконец, в Шанхае пересадка на почтово-пассажирский пароход русского торгового флота «Рязань», следовавший во Владивосток.
На этом отрезке пути их настиг даже не шторм, а настоящий тайфун: лишь к девятому дню, когда уже никто и не мечтал остаться в живых, море успокоилось. Таким — под стать всему пережитому за три года, — оказалось возвращение в Россию.
Здесь, снова во Владивостоке, начинается уже другая история, но прежде надо еще закончить эту — эпилогом.
Сорок два года спустя, в конце мая 1960 года, отцу довелось вновь побывать во Франции, на этот раз в составе советской правительственной делегации.
Надо сказать, что запланированной встрече на высшем уровне предшествовал международный инцидент — первомайское вторжение американского разведывательного самолета У-2 в советское воздушное пространство. Завершилось оно самым прискорбным для США образом: самолет сбили, а летчик Пауэрс, не пострадавший при крушении, подтвердил, что выполнял разведывательный полет и вовсе не случайно оказался в небесных просторах вероятного противника.
Американская делегация по неведомой причине полагала, что на саммите возможна фигура умолчания, но руководитель советской делегации Н. С. Хрущев еще до начала переговоров потребовал публичного осуждения содеянного США и заверения с их стороны, что впредь разведывательных полетов не будет. Глухое молчание в ответ. Делегации, прибывшие во Францию, ещё на несколько дней остаются в Париже, неустанно совещаясь, а у советской делегации появляется свободное время — она свое слово сказала.
И вот как раз тогда, за общим ужином в посольстве отец и упомянул о своей службе в корпусе, о боях на Шампанском фронте и восстании в лагере Ла-Куртин. Как нельзя кстати пришлась тогда эта старинная история — и не только к застольной беседе! Отцовский рассказ, если его сделать достоянием общественности, во-первых, напомнит Франции о воинском союзе былых времен и, во-вторых, отвлечет прессу от дипломатической распри. Н. С. Хрущев понял это мгновенно и, узнав, что до помянутого отцом Плёра-на-Марне путь недальний, предложил съездить туда, устроить отцу «свидание с юностью».
Та же дорога, почти не изменившийся Плёр — знакомые дома, таверна на окраине и встреча с крохотной, иссохшей старушкой, в которой невозможно узнать хозяйку таверны — Марго. Она помнит русских солдат — да и как не помнить, если они, покидая Плёр, свечой написали на потолке ее имя! И про медведя помнит все селенье — рассказы о нем передавались из поколения в поколение, а сын старика Пиньяра Рене (ныне почтенный фермер пятидесяти с небольшим) и посейчас гордится тем, что тогда ему, мальчишке, позволили погладить ручного зверя.
У этой поездки (которой, как ни странно, мы обязаны неудачливому летчику Пауэрсу) были немаловажные следствия и для отца — он взялся за роман, — и для тех солдат корпуса, что вернулись в Россию.
После публикации в «Огоньке» очерка о поездке в Плёр, где впервые открытым текстом говорилось о наших солдатах во Франции, отцу стали писать однополчане — со всех концов нашей необъятной родины и из иных мест приходили письма: Вологда, Казахстан, Сибирь, Франция, Югославия и даже Австралия.
Ведь служба министра обороны в корпусе фактически реабилитировала тех, кто там служил и, вернувшись на родину, скрывал это обстоятельство. Надо заметить, что Иностранный Легион остался за кадром этой истории — а ведь именно в Плёре по окончании войны шло расформирование русского Легиона Чести, и об этом помнили те, кто там служил. Таким образом, и у них, записанных во «враги революции», а не только у тех, кто после корпуса работал в каменоломнях, возникла возможность легализации своего боевого стажа и, следовательно, получения существенной надбавки к пенсии.
Фигура умолчания оказалась весьма многозначительной и полезной. Журналисты — не историки, лишними знаниями не обременены, и потому во французских публикациях и, конечно же, в огоньковском очерке об Иностранном Легионе ни слова, хотя дата — 1919 год — упомянута (корпус к тому времени уже давно был распущен). Что ж, sapienti sat . (Это, кстати сказать, одна из любимых отцовских латинских цитат, частая его маргиналия.)
У меня хранятся письма сослуживцев отца с воспоминаниями и просьбами подтвердить боевой стаж. Сохранилась и папина переписка с военным архивом по поводу документального подтверждения стажа сослуживцев, и его обращения в инстанции, ведающие пенсией. Если же они с автором письма служили в разных подразделениях, и сам он подтвердить стаж не мог, то непременно посылал адреса тех, кто служил вместе с автором письма и тоже откликнулся на публикацию в «Огоньке», — они свидетельствовали друг за друга. Так легализовали свое участие в войне многие солдаты Шампанского и Салоникского фронтов.
Поразительно интересны эти письма, короткие или на двадцати страницах. И своим слогом (к примеру: «Бонжур мусью Малиновский, мой однополчанин и приятель незабываемых лет!»), и всей историей последующей жизни, описанной простодушно и безыскусно. Они бесценны и как историческое свидетельство, и как человеческий документ.
Есть даже воспоминания об алжирских лагерях, а в одном из писем (страницах на тридцати) — целая антология солдатского поэтического творчества: песни, частушки и нечто эпическое, начинающееся словами: "В Ла-Куртине было дело…" Знаю, что весь этот драгоценный материал папа отдал перепечатать и переслал в издательство, видимо, в Воениздат. Там он не пригодился — и канул в небытие, за исключением оставшихся у нас дома нескольких дубликатных страничек.
На каждое письмо отец отвечал сам, не через секретариат. Вот, к примеру, один из его ответов — М. А. Костину, тому самому, что блистал в роли тургеневской Верочки и ради театра научился игре на фортепиано. Кстати, из письма следует, что Костин играл главную роль и в «Днях нашей жизни» Леонида Андреева:
Я, конечно же, помню Вас — маленького солдатика, сыгравшего Оль-Оль в «Днях нашей жизни». Увы, ни следа не осталось в Плёре от барака, где был наш театр.
Видел я и хозяйку таверны, жену старика Пиньяра. Ей уже 80 лет. И проезжал мимо того поля, где старик Пиньяр разрешил нам играть в футбол.
А недавно получил письмо от Константина Дмитриевича Лебедева – помните, в нашей футбольной команде он играл за левый край и очень ловко вкатывал с корнера под верхнюю штангу мячи в гол? Посылаю Вам его адрес.
В Россию я вернулся в 1919 году через Владивосток вместе с Дмитрием Алексеевичем Введенским. Там мы с ним и расстались, и теперь только от Вас я и узнал о нем.
А с Васей Ермаченко мы вместе служили в 240-м Тверском полку в 27-й дивизии Красной Армии, но в январе 1920 года я заболел тифом, долго лежал в госпитале, чудом выжил, а Вася с полком ушел на Польский фронт, и так мы потерялись.
Всех товарищей-однополчан я растерял. В 1930 году умер от туберкулеза Миша Калинин. Николай Бережной со мной учился в Академии, а теперь, после войны не могу его найти. В Париже приходил ко мне в посольство Перевозчиков, кажется, он был ординарцем у капитана Прачека и остался во Франции, стал мебельщиком. Вот так.
В Плёре мы побывали в том самом кафе, о котором вы вспоминаете, оно рядом с мэрией.
Сердечное вам спасибо за письмо! Сколько воспоминаний оно расшевелило!»
Все письма однополчанам отец подписывал так:
Знаю, что с некоторыми однополчанами отец виделся — об этом есть упоминания в письмах. А одна из таких встреч произошла на моих глазах.
Году в 62-м у нас в доме побывал удивительный гость — диковинный человек, очень не похожий на всех виденных прежде. Высокий, сухощавый, лысый старик в черной паре с черным галстуком-бабочкой необыкновенных размеров — как бант у первоклассницы. Изъяснялся он каким-то полупонятным, старинным слогом, вставляя французские слова и подчеркнуто грассируя. Казалось, он гораздо старше отца и появился у нас на даче прямо из XIX века, каким-то чудом миновав двадцатый.
Не знаю, о чем они с папой проговорили все воскресенье, но, судя по сердечному прощанию и прекрасному настроению обоих, беседа их увлекла. Жаль, конечно, что я не расспросила тогда отца об этом человеке, похожем не то на провинциального трагика, не то на члена Государственной думы (такое у меня тогда было представление об этой реалии). Не знаю, как сложилась его судьба после возвращения из Франции, не знаю даже имени... А ведь надо было слушать и слушать, и запоминать, но куда там — до памяти дорастают, увы, только к старости...
Что же до других папиных сослуживцев, упомянутых в письме, то в моем архиве есть фотографии Михаила Калинина, одного и с семьей, есть письмо Константина Дмитриевича Лебедева; а с дочерью Дмитрия Алексеевича Введенского Никитой Дмитриевной мы, как оказалось, десятилетиями ежегодно встречались в доме общего друга, но о родителях речь никогда не заводили. Мы, можно сказать, заново познакомились — в этом качестве, — встретившись в Историческом музее, когда французы привозили выставку, посвященную нашему Экспедиционному корпусу.
Помню, что на вернисаже присутствовал и французский посол, и военный атташе, и специально приехавший начальник Военно-исторического института; их сопровождало изрядное количество французских теле- и радиожурналистов. Официальные лица, прибывшие из Парижа, произнесли длинные, заранее заготовленные речи, в ответ буквально несколько благодарственных слов сказал директор Исторического музея. А ещё слово предоставили мне — частному лицу. И всё. Ни министр культуры, ни начальник Института военной истории, ни руководители Военно-исторического общества не почтили вернисаж своим присутствием.
Хочется спросить, где были те, что спустя всего лишь четыре года — по случаю столетнего юбилея — вспоминали о Великой войне, наперебой обвиняя своих предшественников в постыдном забвении национальной истории…
И это ещё вполне благополучная — не частая — судьба.
В письме М. А. Костину отец упоминает другого своего сослуживца по корпусу: Николая Бережного, с которым вместе учился в Академии Фрунзе, и замечает: «А теперь, после войны, не могу его найти». Я тоже искала сведенья о Николае Бережном и нашла несколько скупых строчек в списке репрессированных командиров:
Бережной Николай Степанович (1895 — 1937) полковник, член ВКП(б) с 1921 года, начальник штаба 22-й стрелковой дивизии. Арестован 9 апреля 1937 года., приговор ВКВС 25 декабря 1937 года. Реабилитирован 5 апреля 1958 года.
Ни об Экспедиционном корпусе, ни об Академии Фрунзе упоминаний нет, но, думаю, этот тот самый Николай Бережной — имя совпадает и год рождения соответствует. Его нет среди отцовских однокурсников в фотоальбоме, посвященном десятому выпуску Академии, но ведь он мог учиться на курс старше или на курс младше и не попасть в альбом.
Начав искать Бережного, я уже не могла остановиться. Вот передо мной фотография — вторая группа основного факультета выпуска 1930 года: девять человек, трое, видимо, преподаватели. Кто они, эти люди, с которыми папу свела Академия? Какие хорошие лица — совсем другие, не теперешние.
Что я знала о его однокурсниках? Немногое. Двое — люди известные: Николай Николаевич Воронов, ставший Главным маршалом артиллерии, Александр Александрович Новиков, тоже Главный маршал, но авиации. Они окончили академию в том же 1930 году, но учились в других группах.
Ещё один (на фотографии он рядом с отцом, слева) — Александр Фомин, его друг, с которым в 1937-ом, узнав, что он только что приехал в Испанию и тоже на Мадридский фронт, папа уже договорился встретиться в первую же передышку, но не успел: Фомина убили на наблюдательном пункте за три часа до приезда отца — прямое попадание.
Больше я ничего не знала ни о ком. И стала искать. Кое-что нашла — упомяну только тех, кто учился в отцовской группе, и преподавателей, снявшихся вместе с учениками.
Справа от отца — Федор Дмитриевич Рубцов (1896 — 1941), генерал-майор, начавший войну, как и отец, командующим корпусом. 9 сентября 1941 года в бою Рубцов попал в плен и погиб в концлагере.
В первом ряду справа еще один близкий друг отца, в юности тоже пулеметчик — Александр Ромейко (1898 — 1956). После Академии Фрунзе он окончил Военно-Воздушную Академию, был начальником штаба авиабригады, а потом начальником штаба ВВС Московского Военного округа. В 1938 г. уволен из РККА, в 1940-ом восстановлен.
И никаких подробностей: ни почему уволен, ни где был в войну.
Удалось найти две строчки о том, кто стоит рядом с Фоминым: Михаил Иванович Булдаков (? — 1938) полковник, начальник артиллерии 97-й стрелковой дивизии. Расстрелян 3 апреля 1938 года по приговору ВКВС.
В первом ряду — преподаватели.
Рядом с Ромейко Дмитрий Николаевич Надежный (1873 — 1945) — генерал-лейтенант, участник Первой мировой и гражданской войны. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду, штабс-капитан. В 1918 году добровольно поступил в Красную армию. С 1926 года на преподавательской работе: в Академии им. Фрунзе (1926—1931). Арестован 2 января 1931 г. Уволен со службы. Виновным себя не признал. Приговорен к ИТЛ на 5 лет с заменой ссылкой на Урал сроком на 3 года. В июле 1932 года досрочно освобожден и восстановлен в РККА. Преподавал в Военно-медицинской академии, с 1942 года в отставке.
О другом преподавателе сведений меньше.
Пакалн Альберт Петрович (1898 — 1938), полковник. Арестован 4 февраля 1938 года. Приговорен ВКВС СССР 26 февраля 1938 года по обвинению в участии в военно-фашистском заговоре. Расстрелян 26 августа 1938 года. Реабилитирован 23 марта 1957 года.
О Шелковее-Езове, тоже преподавателе — ничего. И о сокурснике Розенблате (во втором ряду справа) тоже ничего… А ведь хоть что-нибудь должно было бы найтись, если б они преподавали, командовали, воевали — для этого ведь учились.
И так же точно на других фотографиях: двое-трое, если не убиты на войне, дослужили до запаса, еще четверо не дожили до войны, еще о двоих никаких сведений… Всего фотографий десять. Вот какая статистика. И это — выпускники самой лучшей академии, самые нужные стране в 41-ом году люди...
Через полгода после нее на папином столе появился блокнот с «Действующими лицами» и толстая тетрадь — первая из одиннадцати, самое начало рукописи романа. Рядом — две подробные карты (Восточной Европы и Франции), курвиметр и стопка менявшихся книг по истории Первой мировой войны из Ленинской библиотеки. Если они не разрешали сомнений или возбуждали новые, в отдельной тетрадке с надписью на обложке «Проверить» после отсылки к спорному абзацу возникала запись: «У историков — иначе».
В письме к Костину отец не упомянул еще об одной встрече с однополчанином. О ней мне несколько лет назад рассказал маршал Советского Союза Василий Иванович Петров (встретились мы в госпитале, а жить ему оставалось совсем недолго).
Дело было в Хабаровске, вскоре после войны. Шло краевое совещание, посвященное дисциплине и воспитанию. Василий Иванович, еще в небольших чинах, присутствовал на совещании и слышал выступление отца. Он говорил, в частности, о недопустимости грубого отношения к солдату со стороны командиров, о недопустимости мордобойства — «наиподлейшего явления, которое невозможно терпеть и которого быть не должно». (Василий Иванович, поразивший меня своей памятью — в 97 лет!) запомнил отцовское выражение дословно, как и рассказ, который за этим последовал.
Отец упомянул о корпусе, о мордобойцах, помянул о том, что сам не раз бывал бит, и рассказал в подробностях один случай. «Ушел я в самоволку, был пойман и предупрежден, снова ушел и снова был пойман. Унтер-офицер на этот раз тоже ограничился предупреждением: «В третий раз поймаю, морду набью». Поймал — и, как обещал, набил». При этих словах отец обратился в зал: «Иван Петрович, не думайте, я на вас зла не держу, вы же не со зла мне затрещину влепили, а в воспитательных целях и не сразу, а на третий раз». И закончил: «Приведенный пример будем считать исключением, которое только подтверждает правило: мордобойство в армии недопустимо».
Ивана Петровича Хотемкина (если я правильно услышала фамилию), того самого унтера, а после Великой отечественной уже комполка, Василий Иванович Петров хорошо знал. И знал, что тот все годы службы на Втором Украинском и Забайкальском фронтах, да и тогда, на Востоке, мучился сомнениями: помнит его командующий или нет? Помнит ли про затрещину?
Отец его состояние понимал и, раз уж пришлось к слову, хотел раз и навсегда внести ясность: «Служите спокойно». Василий Иванович подтверждает: герой того дня, Иван Петрович Хотемкин, по его собственному признанию, после собрания «перевел дух», а на вполне благополучном служебном росте бывшего унтер-офицера затрещина никак не отразилась.
Начало 80-х годов. Готовится к изданию томик Аполлинера, муж переводит стихи, которые выбрал, мы говорим о тексте, разбираем конструкции — все, как обычно. В конце концов я печатаю его переводы, и вдруг вижу под стихами дату и место — Мурмелон, весна 1916 года.
Как все пересеклось! Значит, там, где Аполлинер был ранен, воевали наши солдаты, и, может, стихи, которых по-русски ещё никто кроме меня не знает, написаны в том же окопе, что запечатлен на этом снимке, где папа совсем еще мальчишка — вот он, в каске...
Бредут окопники и взгляд их жжет и ранит
Нам нет возврата в сад и лавров больше нет
Влюбленного убьют любимая обманет
И погребет тоска бессмысленные дни
Под несмолкаемый сосновый гул плакучий
Дождусь ли глаз твоих единственной родни
И все ли кончено раз я тебе наскучил
Как много нас легло в пятнадцатом году
Живей живей живей В аду как на форпосте
Играй Бросок костей и су'дьбы на виду
Две артиллерии угрюмо мечут кости*
Мурмелон, весна 1916.
1988, 2014.