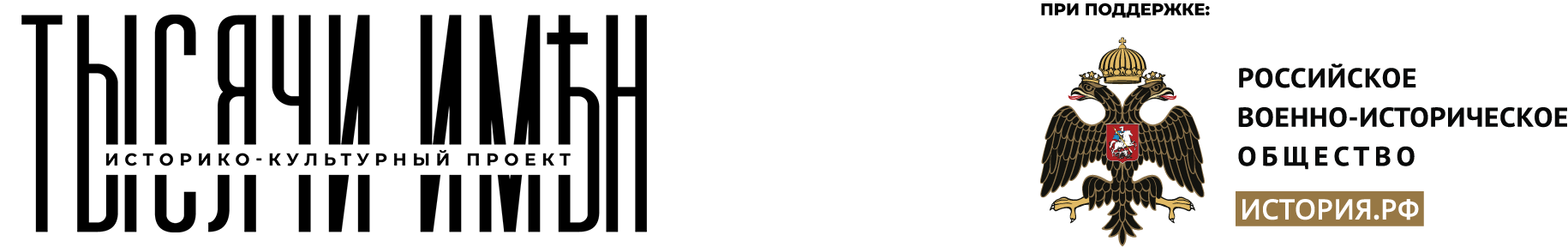Нажимая «ОК», я соглашаюсь на обработку cookie-файлов, необходимых для корректной работы сайта
Народные мемуары
"Пишу свою биографию"
1892-1978
Предисловие…
В рубрике «Народные мемуары» о своей жизни вспоминают не великие политики или полководцы, не писатели или артисты, а обычные люди с обычной судьбой хлеборобы, бухгалтеры, председатели колхозов, учителя, инженеры, рабочие. Только жизнь их обычна лишь на первый взгляд. Окинешь взором двадцатый век и станет ясно, что водоворот его грозных событий увлек, вознес или сломал судьбу каждого человека, живущего на российской земле.
Даже рассказывая о своей личной жизни, любой мемуарист дает срез эпохи, времени. Ему нет надобности, приукрашивать те, или иные события в масштабах страны, а потому и сквозь идеологическую шелуху проступают его переживания и боль.
Старики любят вспоминать, особенно если их об этом просят дети и внуки. Вот и Михаил Лукьянович Главатских записывает в 1959 году: « По вашей просьбе, дорогие мои дети, пишу свою биографию…»
Страницы ее, относящиеся к детству, юности, службе в армии, первой германской войне. А дальше было возвращение Георгиевского кавалера в родные Дебесы, гражданская война, создание, пожалуй, самой первой в Удмуртии сельскохозяйственной коммуны под символическим названием «Муравейник» имени «В.И. Ленина». Но прочь, прочь идеологическую шелуху! проступают за ней чаяния, боль и переживания простых людей, для которых и творится история, которые и творят историю…
Михаил Лукьянович Главатских родился в селе Дебессы, Удмуртской Республики был личностью примечательной. Принадлежал к роду одних из первых Дебесских поселенцев. С детства нужду мыкал, в юности овладел несколькими профессиями. На первой германской войне стал Георгиевским кавалером.
Вернулся с войны после революции на родину, а тут новая война закружила, сдернула с места - гражданская. За новую Советскую. Власть Михаил Лукьянович кровь проливал. Затем он был создателем и председателем, пожалуй, самой первой на территории Удмуртии сельскохозяйственной коммуны.
Неординарную эту личность сформировала и закалила эпоха великих перемен. Вся жизнь в трудах прошла, вот и Советская власть не оставила заботой ветерана за военные и трудовые подвиги «положили» М.Л. Главатских в колхозе 12-ти рублевую пенсию. К началу 1970-х годов ее увеличили, аж до 50-ти рублей, и то не без помощи первого секретаря райкома КПСС.
Умер Михаил Лукьянович Главатских в селе Дебессы, в доме своего младшего сына Главатских Леонида Михайловича, в возрасте 86 лет. А род Главатских не прервался, в селе до сих пор живут его потомки, которым и адресованы автобиографические строки, написанные Михаилом Лукьяновичем еще в 1959 году. Только это уже не только и не столько история семьи, в них история страны, портрет эпохи и ее людей.
Из позапрошлого века…
По Вашей просьбе, дорогие мои дети, пишу свою биографию…
Так вот же, мои милые дети, я родился в 1892 голу, а по паспорту и по всем документам считалось, что родился в 1890 году 19 ноября, а окрестили 21 ноября, в день Святого Архангела Михаила.
Родился в семье отца моей матери, т.е. у дедушки Лукьяна Николаевича и был прозван его именем и фамилией. Отец же мой был Фомин Алексей Иванович. Они подружились с матерью, дали друг другу слово, что будут мужем и женой. В то время семья моего дедушки состояла из 4-х человек: дедушка, бабушка, моя мать и дядя Козьма (брать матери).
Вот этот Фомин и приходил свататься к моей матери, но ему все отказывали, потому что дядя Козьма еще был холостым, а в хозяйстве кроме матери не было женщины, которая могла бы управляться с хозяйством. И вот дедушка с бабушкой и дядя Козьма стали упрашивать мать, чтобы она не оставляла их одних в таком плачевном состоянии.
В ту же осень, в которую я родился, Фомин ушел на военную службу, дав обещание матери, что после службы он нас возьмет в свой дом. Но он пробыл на службе 4 года. А за это время дядя Козьма женился и сноха - жена дяди Козьмы, стала гнать мою мать…
Дедушка оставил меня у себя, так как я был приписан к нему.
Вскоре после того, как мать ушла из дому, к ней присватался - Владыкин Александр и она вышла за него замуж. Я с ними вместе не жил, а жил у дедушки с дядей Козьмой.
Потому как я был здоров и крепок, очень рано стал помощником в хозяйстве с 5 лет: пилил дрова, возил с реки «Дебесски» воду, водил поить летом скот. Хорошо ездил верхом, но только больше шагом, потому что ноги были коротки, и если лошадь бежала, то я скоро падал. Водил отпускать в поле лошадь, ходил за коровами в поле и очень часто мастерил, чего только на ум взбредет. И все выходило не так плохо, как у других ровесников.
На 8-м году пошел в школу. До лета не отпускали, говорили, что работать ты и так можешь, а в дальнейшем и без учебы научишься кое-чему. И вот за то, что пошел самовластно в школу, тетя Маша-первая жена дяди Козьмы, много раз оставляла меня без еды и говорила: «…что, мол, тебя «дармоеда» кормить - самому надо работать». Но так как дедушка и дядя Козьма больно-то не приневоливали на работу, то я стал самым серьезным образом продолжать учиться.
А учился я только на «хорошо» и «отлично», несмотря на то, что очень мало готовился к урокам дома, потому, что надо было помогать тетке по хозяйству. Успешно окончил свое учение в 1904 году и поступил на работу к Соину Л. Гр. Вот у него то и по будням работал по хозяйству, а в воскресенье помогал торговать. А жалованье, как это говорили в то время, он платил всего 2 рубля в месяц, и был я на готовых «харчах».
Золотые руки
И вот я у этого Соина проработал с осени до весны 1905 года. В апреле месяце получил расчет очень уж показалось мне обидно - дешево. Поступил я подмастерьем-молотобойцем в кузницу. А всего мне было тогда 13 лет. Правда, тут уж я работал за взрослого, и платили мне по 35 копеек в день или 2 рубля 10 копеек в неделю. Проработал год, на другой год стал работать там же за мастера, и тогда уж мне платили 50 копеек или 3 рубля в неделю. Хотя по тому времени и это уж было не так дешево, но, однако мне опять мало было. То есть мало попадало в руки из моих заработанных денег, потому что в то время уже хозяйничал в доме дедушки - дядя Козьма и у него были свои дети. А получку мою получал он в конце каждой недели в свои руки. Я на себя тратил только то, что мог заработать по воскресеньям и праздничным дням. Был я и тем доволен, что смог кое-что приобрести для себя и даже гармошку тальянку, на которой быстро научился играть, и уже был первым парнем на селе…
Став мастером по кузнечному делу, мне хотелось поставить свою кузницу, но в этом отказал дядя Козьма, ссылаясь на то, что моя половина заработка попадает ему в карман. Я это понял и тогда решил перейти на другую специальность - плотничать.
Перед самым окончанием кузнечной работы, я сделал себе на память телегу, на железном ходу, которую дядя Козьма при дележке оставил для себя: а ты мол, еще себе сделаешь. Эту телегу вы дети помните, ту, что у дяди Козьмы была.
На 16-м году я перешел на работу по плотницкой части. По первости, работал поденно, один месяц по 30 копеек в день, а другой день 35 копеек. И так все выше и выше. За год я достиг 80 копеек за день и считался уже мастером. В это время я и научился пилить продольной пилой и по веснам ходил по домам и пилил со своим дядей Козьмой бревна. Зарабатывали по 2-3 рубля в день в день на одного.
Сватовство
Вот так я рос и мужал без своего отца и матери. Когда я достиг 18 лет, мне предложили жениться. К тому времени у меня было много знакомых девчат из своего села и из деревень, так как был я хорошим музыкантом. Со своей стороны я имел в виду жениться на Суворовой М. Во исполнение своих намерений я и пошел однажды свататься в их дом.
Дело было летом, в субботу под вечер, после работы, перед Троицей. Взял с собой бутылку водки и пошел к ним. Вошел в избу, как полагается, обошелся по традиционному обычаю, водку поставил на стол и сразу попросил чайный стакан, потому, что знал характер тестя шурина они из рюмки не любили пить…
Говорю им: вот, мол, надумал жениться и выбираю в жены вашу дочь; меня, мол, вы знаете хорошо и я вас тоже, а потому как мы с Марией В. крепко подружились, то просил бы не отказывать в моей просьбе.
Тогда, «будущие» тесть и теща говорят: «Да, мы тебя знаем только с хорошей стороны. И если ты не смеешься, то посылай стариков на это дело мы не откажем Вам».
… Вот так я и стал женатым. Через неделю была сыграна свадьба, как раз в Духов день, следующий после Троицы. Это был 1910 год.
На свадьбу израсходовали около 70 рублей, и вот этих-то денег тетке, видимо и стало жалко, и она, спустя несколько дней, сразу стала выговаривать моей жене. Ну, правда, год был тяжелый, работы в селе Дебессы почти не было, и я решил ехать на заработки в г.Пермь… Вернулся к сенокосу и привез денег 45 рублей, каковые дал в руки дяде, говоря, что возмещаю свой «свадебный расход». Ну, он обрадовался.
Раздел
В хозяйстве мы жили неплохо, дружно, но эта дружба, правда, продолжалась недолго. Мы с дядей Козьмой работали как обычно на стороне: где плотничали, где пилили. И, в общем, заработок наш был в то время очень хороший. Но в хозяйстве мало, что прибывало: деньги все попадали «подспуд» тетке.
И вот, видя такое положение, дедушка как-то раз сказал: «Кузя! Хозяйство надо передать Мише. Я вижу, что пользы от этого будет больше, так как он у нас вполне этого заслуживает».
В этом дядя Козьма не возразил, и так я стал молодым хозяином. За год моего хозяйствования мы перестроили все хозяйственные помещения, завели двух хороших лошадей, купили сбрую, больше стало хлеба. В общем, стали жить зажиточно. Но все это не понравилось тетке: ей показалось, что «старшим» в семье жить под «хозяином» не принято, и «подбила» дядю Козьму на раздел имущества.
…Я распорядился собрать стол в верхнем саду, и на него поставили по ½ четверти «кумышки» от дяди Козьмы и меня. Посадил я рядом бабушку и дедушку, дядю Козьму и тетю. Налил всем по рюмке «кумышки» и сам взял тоже, всем четверым поклонился земно, поблагодарил за мое воспитание, после чего, все мы «чекнулись» и выпили. Потом повторили. Затем я обратился к дедушке: «ну, мол, дед, давай, дели нас с дядей. Он горько заплакал, а потом и дядя тоже, ну, и я прослезился. Тогда тетка говорит: «Я буду сама делить имущество».
Как раз до этой дележки я ездил на мельницу и смолол 72 мешка муки. Из них она нагребла 1 мешок и дала на нашу долю. Семья у меня тогда уже была 4 человека: я, жена, дочь и бабушка, которая ни за что не осталась с теткой. Дедушка тоже хотел переходить со мной, но сноха запротестовала, говоря, что им тоже помогать надо, что у них детей много.
Из построек дали мне маленькую избенку, маленький амбарчик и конюшню. Дали старенькую тележку и лошадь тоже старенькую, а им остался хороший мерин. Из остальной живности взяли, что было из приданного. Вот так и разделились за полгода до моей отправки на военную службу. За это время я ничего уж не успел переделать в своем хозяйстве и оставил свою семью в одном дворе с дядей Козьмой. И вот мое хозяйство стало опять «беднячное».
На военной службе
На службу я отправился 27 ноября 1913 года. В г.Сарапуле пробыл на «сборном» 4 суток. Там же принимал военную присягу, в той самой Красной церкви, которая сейчас под военным складом находится. На четвертые сутки нас отправили с музыкой через реку «Кама» на лошадях до г. Уфы. Там погрузили нас в товарные вагоны и поехали мы дальше. Привезли нас в г.Карачев Орловской губернии, где стояла тогда 36-я артиллерийская бригада. Я служил в третьей батарее, в легкой полевой артиллерии.
Пройдя курс молодого солдата, меня и многих других из бригады выбрали как способных и послали в учебную команду на 1 год. Занимался я хорошо и был «вторым» учеником из 120 человек. Но не успел окончить обучение, в июле 1914 года была объявлена война с Германией. Нас спешно проэкзаменовали, тех, кто сдал произвели в «фейрверкеры», кто не сдал в «бомбардиры». Я, конечно, был произведен в фейрверкеры и назначен начальником 5-того орудия.
Тогда батареи были еще 8-ми орудийными. В то время мы были в лагерях, в Московской губернии, вблизи села Клементьева там был большой военный полигон. Срочно выехали и уже к концу июля были в походе на Брестском направлении.
На Германской войне
В то время как наш 13-й армейский корпус продвигался вперед, 36-я и 1-я дивизии, что были по соседству с юга, отступили, и немцу удалось пробраться в наш тыл. В окружении мы были с неделю, и под конец, видимо, командование корпуса решило пробиваться к своим. Командиром корпуса был генерал Клюев, а командующий 2-й армией генерал Самсонов, и оба они были с нами вместе в окружении.
В последних августовских боях в лесах вблизи Мазурских озер, в последней, решительной схватке, генерала Самсонова убило осколком с лица в голову, а Клюева взяли в плен. Из того боя вышло нас совсем немного живых. И я тоже был тогда ранен в левую ногу и в правую руку, а лошадь подо мной была убита наповал. В том сражении на небольшом участке (примерно с гектаров 5) погибло около 20 000 людей и более 3 000 лошадей, и вообще все орудия и весь обоз все погибло. Я, не имея возможности ни двигаться, ни сидеть, лег в самую гущу трупов и пролежал дотемна…
Сколь не трудно было, но все же мы пробились на свою территорию. Как раз тогда ночь угадала ясная, и я очень хорошо мог ориентироваться по звездам, благодаря чему пошел по границе и перешел ее на вторые сутки около местечка «Зимбров». Явился я в комендатуру, комендант меня принял за беглеца с фронта и запер в каменную казарму. Наутро он меня решил расстрелять безо всяких разбирательств. Там был цементный пол, вот тут-то Ия проходил всю ночь взад-вперед по казарме! Одежды на мне никакой не было, кроме одной гимнастерки, даже нательная рубаха была изорвана на повязку руки и ноги. Правда и ходить то было очень трудно, а сидеть или лежать совсем невозможно. Утром ко мне еще втолкали человек 15, к обеду еще человек 30, а к ночи нас уже было 250 человек. Но есть, все еще ничего не давали, только поставили кадку с водой пей на здоровье…
Только на другое утро, когда нас уже было 400 человек, стали допрашивать, как мы отступили и почему оставили свое оружие и «убежали» с фронта (в числе 400 солдат были и человек 10 офицеров)
И вот, выяснив обстановку, нас немедленно поставили на усиленный паек и через 2 дня отправили на отдых в г.Лида. Весь 1915 и 1916 г.г. нас перебрасывали по всему Западному фронту от г.Двинска до г.Риги. К тому времени я имел уже два Георгиевских креста и медаль за отвагу. Летом 1916 года я получил вне очереди отпуск, за отличие в боевых операциях при переходе через реку Двину, каковая несколько раз «переходила» из рук в руки.
В отпуск!
Приехав домой, я и не сразу узнал свою дочурку Таю так она здорово выросла и поумнела. Сначала то даже подумал, что это теткина дочь. Когда мне сказали, что это моя Тая, тогда я подошел к ней поближе и верно, это она! Взял ее на руки, крепко обнялись и не можем с ней никак разняться. Вот до чего, шеломит человека неожиданная радость!
Дома меня встретила жена с той самой «кумышкой», которую сварили на мои проводы. Когда я в армию уезжал то, сидя за столом в последний раз, подливал из этой посудины всем, кто пришел меня проводить. И потом в ту бутыль опустил монетку - серебрушку в 20 копеек и сказал: «Подлей, жена, в бутыль обратно, и эту кумышку ты зарой в голбец в землю! А когда я приеду домой, то эти 20 копеек я и достану».
Жена так и сделала, - пополнила бутыль и закупорив, зарыла в голбец. По приезду, я ее вырыл сам, и все время понемногу выпивал в течение всего месяца отпуска. Вот прошел месяц, и опять надо ехать на фронт. Опять, простившись со своей семьей, я вышел из дому. Меня проводил на лошади до станции Чепца, дядя Козьма. Ездила меня провожать и жена.
По пути, проездом на фронт, я заехал в г.Петроград, где в то время служил в одной из прифронтовых частей Павел Федорович Суворов брат моей жены. Он тогда еще был холост. Повидались, погостили, друг у друга, то есть я из дому тоже кое-что вез с собой, была и выпивка. Побыл в г.Петроград ровно 2 дня и поехал на позицию к своим товарищам.
Революция раз,
Революция два…
Из г.Двинска поезда ходили вдоль фронта только по ночам, потому что дорога во многих местах обстреливалась, и даже ночью часто разбивали поезда. Где-то недалеко от г.Двинска, на какой-то разбитой станции я сидел, и ожидал наступления темноты, а пешком идти надо было километров 40, и я не пошел.
Вот сидел и сидел, да и, видимо, вздремнул уже в сумерках. Вижу совершенно как наяву, свою жену в той же самой одежде, в которой она проводила меня до станции Чепца. Вот стоит она передо мной и ожидает, когда я встану. Потом уж я открыл широко глаза, а все еще ее вижу и не помню: где это я и что со мной.
Потом постепенно все разошлось, как в тумане, скоро подошел поезд, и я поехал до своей станции «Ремерзгоер». Приехал перед рассветом, зашел в землянку и с товарищами уснул часа на 2-3.
Ну, утром как полагается, явился к начальству. Затем повидался с товарищами, они все были живы и здоровы. Вскоре после моего приезда стали готовиться к генеральному июльскому наступлению протяженностью от Двинска до Риги. На этот раз, прорвав фронт, прошли на запад километров на 100 и там закрепились всей армией около г. Суванки Моблин. Там же встретили февральскую революцию.
Затем нас перебросили на Юго-Западный фронт, в Волынскую губернию, под г. Кременчуг. Стояли возле Почаевской Лавры. Местность там ужасно красивая. Я даже художественную картину привозил домой на память и долго хранил ее.
С середины июля 1917 года нас перебросили в г.Петроград на усмирение большевиков. Но нам не пришлось в этом участвовать, потому что, не доезжая километров 80 до столицы, пути железнодорожные были разобраны, а рельсы увезены. Нам пришлось остановиться посреди поля и стоять там, ожидая распоряжения.
После того, как все было покончено в Петрограде, нам был дан приказ следовать походом в г.Пярну. туда мы прибыли в конце августа 1917 года. Встали на позицию, на береговую охрану Пярнусского залива. Тут мы и встретили Октябрьскую революцию, простояв без дела до нового 1918 года. После революции нас никто так уж и не держал сильно, так что многие наши товарищи оттудова поразъехались кто куда: кто домой, кто Красную гвардию. Разбежалось и наше начальство, которое в то время было выборным. Я же оставался до последнего дня, так как был комбатом.
Еду я на родину...
…Кое-как, почти насильно сдали мы свои орудия а тогда их уже было в каждой батарее по 4 - представителю Реввоенсовета фронта, фамилию которого уже сейчас не помню. С ним вместе и с оставшимися солдатами погрузили орудия и все, что было с ними, на поезд…
Все канцелярские дела тоже сдали тому большевику. Потом вместе со своими орудиями отправился и сам до станции «Ревель». Там распростившись с председателем Реввоенсовета, я пересел на Петроградский поезд. Правда, большевик тот очень просил меня остаться при своих орудиях, но я ему в ответ сказал, что у меня есть семья, которую долгое время не видел. Он посочувствовал и сказал: «Ну, что ж, поезжай, счастливый Вам путь!». Тогда я ему оставил свой адрес, потому, что он хотел непременно вызвать только меня опять на свое место. Когда мы с ним расстались, я сразу подошел к эшелону, который следовал на Петроград, и мне пришлось залезть на крышу, потому что, нигде больше не было места, а в то время и это считали за счастье, ведь нас ехало на крышах вагонов не один десяток солдат, хотя дело было в феврале…
С трудом добравшись до г. «Вятки», я заболел, видимо все таки прохватило на морозе. И я в Вятке пролежал 2 недели. Домой прибыл в конце апреля 1918 года, то есть перед самой «Пасхой».
За время моего отсутствия дома все разрушилось. Из скота осталась только одна кобылешка - немудренькая, а коровы уже не было, ее продала жена. И было 9 кур. Семян зерновых тоже не было. Хорошо, что я с собой привез немного денег. Сразу приобрел нужное количество семян и полностью засеял свою землю и еще полоски 3 на соседние участки посеял. Урожай угодил хороший вот я опять стал с хлебом. В то же лето купил корову, которая угодила на редкость - доила по 18 литров! После уборки урожая мне ничего больше развертывать по устройству хозяйства не получилось, так как с восстанием в г. Воткинске положение стало угрожающим.
Вдоль Сибирского тракта - война...
Я работал в то время в «Комбезе», а при приближении к нам Восточного фронта работал уже исполкоме. Заведовал 3-мя отделами: отделом народного образования, земельным и продовольственным. Когда в Дебессах сосредоточилось много войск, я предложил организовать межрайонный отдел снабжения, включив сюда волости Дебесскую, Тыловайскую, Зюзинскую, Зуринскую. Для этого надо было выехать в «Уездное продовольственное управление», которое находилось тогда в г.Воткинске. приехав туда, я очень скоро добился того, чего хотел, и там же меня назначили председателем отдела снабжения. Но в марте отделу снабжения пришлось эвакуироваться из Дебесс, и меня назначили председателем эвакуационной комиссии. И вот опять, ровно через год пришлось покидать свою семью. Под моим руководством и по моим распоряжениям эвакуировались все учреждения и отделы волости. Даже Поздеев Петр Федорович и тот был под моим распоряжением. Все дела сдали в г.Галич.
После сдачи дел, мы поступили добровольно в 30-ю дивизию, штаб которой стоял в селе Уни, военкомом дивизии был Малыгин Степан Иванович. Среди добровольцев из Дебесс были я, Поздеев П.Ф., Стрелков Петр Афанасьевич, Белянин Алексей Алексеевич, пантюхин Леонтий Матвеевич. С этой дивизией мы все продвигались на восток, начиная с апреля.
А обратно ехали через свое родное село в первой половине мая. Поэтому я отпросился на 2-е суток на побывку, и что же я увидел тогда?! Полный разгром хозяйства! Несмотря на то, что белогвардейцы пробыли у нас всего 2 месяца, они все опустошили. Особенно с большой лютостью они набросились на мое хозяйство. Зарезали корову, перерубили всех куриц, увезли хлеб, всю одежду и собирались расстрелять всю мою семью.
Ну, за 2 дня, что смог, я сделал и помог кое-чем, а сам опять уехал догонять свою дивизию, которая стояла в селе «Кленовка». Жена же ходила в положении с Санчиком и после моего уезда через неделю родила.
Мы ехали все время по Сибирскому тракту, вплоть до города Омска. Из Омска я попросился на передовую линию, а то все время был при отделе снабжения дивизии. Меня откомандировали как специалиста артиллериста в распоряжение штаба армии. И оттуда я попал в лазарет, так как заболел тифом…
Только в марте я был назначен в отдельный тяжелый дивизион 29-й дивизии, который стоял в том же городе. Прибыв в часть, сразу принял орудие и был начальником орудия. Там мы стояли до июля месяца, а с 10 июля поехали на Польский фронт, по направлению к городу Варшаве.
На Польском фронте
С боями прошли через город Минск и через 2-3 дня стояли уже под самой Варшавой, так, что наши дальнобойные орудия уже обстреливали город. При последнем сражении у моего орудия выбило 3 номера, и мне самому пришлось быть наводчиком, и начальником орудия.
После полусуточного боя нам пришлось сняться с позиции по приказу командира дивизиона. Только успели сняться и тронуться в обратный путь, как нас накрыли тяжелые «чемоданы» противника. Стреляли и сзади, стреляли и спереди. Нам стало понятно, что мы опять в окружении. Мы тогда развернулись и стали отбиваться на все четыре стороны, пока были снаряды. К концу сражения мало осталось и людей живых, и целых орудий, и лошадей. Я от своего орудия разобрал замковую часть и зарыл ее тут же в землю вместе с прицелом и панорамой. Пока возился около орудия, не заметил, как подошли 4 поляка и меня забрали в плен, а вместе со мной еще 4-х наших ребят. Правда, расстреливать нас не стали, не знаю почему. Просто временно заперли в тут же имеющийся сарай, в котором было полно соломы. Это было все в августе 1919 года. Вот нас заперли, а сами видимо, прошли вперед к фронту. Я сразу сообразил, что отсюда бежать можно, только надо как-нибудь подкопаться под стену. Трудность состояла в том, что у нас ничего не было, кроме собственных рук, да и то очень усталых. Все-таки я решил подкапываться. Нашел удобное место возле столбика в уголке и стал рыть руками. А потом стали мне помогать и мои товарищи. К вечеру того же дня мы бы выход сготовили, да вышло иначе. Оказывается, наши поляков погнали обратно, и они перед отступлением, то ли с намерением, то ли просто для того, чтобы осветить фронт, подожгли наш сарай. Теперь сарай был открыт, но выходить из него было невозможно, потому, что пылал сильный огонь. Выход был один только через подкоп. Но подкоп у нас еще до конца не был готов, хотя оставалось совсем мало рыть. Тогда я залег в подкоп и сильным упором головой поднял последний слой земли и тут же головой оказался на воле. Кругом было тихо, только наш сарай пылал, да вдалеке были слышны одиночные выстрелы. Я второпях вылез из норы и пополз на животе от видимого места в сторону. Затем, отдышавшись,пошел по направлению к своим. А тех товарищей больше не видел, и что с ними мне неизвестно по сей день.
Орудия, которые остались от нас, были еще на том же самом месте, и даже раненные и трупы все тут и лежали. Я опять разыскал все части боевого орудия, собрал его. К этому времени подошли человек 10 из нашей батареи. Так как командир нашего дивизиона был убит (целым снарядом трехдюймовым попало прямо в него, и пройдя сквозь тело, снаряд разорвался после удара о землю), его тут же похоронили спешно, без всяких почестей.
А потом нас переправили обратно в город Минск на пополнение. Там я серьезно заболел: то ли тиф возвратился, то ли еще что, поэтому меня отправили в город Борисов, а оттуда в город Гомель, где я пробыл почти до конца 1919 года. А за это время был мир заключен с поляками. Пробыв с месяц в трудовой армии, меня демобилизовали по старшинству годов, и в феврале 1920 года я поехал домой. Домой приехал только во второй половине марта, потому что поезда не ходили где и пешком приходилось идти.
Пережить голод
Прибыв домой, я в живых уже не застал ни дедушки, ни бабушки… У жены сохранилась только малосильная лошадка, которая спаслась от белых, потому, что была отпущена в поле. Вот на ней и работали до моего приезда на два хозяйства с дядей Козьмой.
Опять мне пришлось приобретать семена и продовольствие. Тогда уж нас было двое детишек Тая и Сано. Плохо еще то, что в хозяйстве не было коровы. Но кое-что я даже до военного сева приобрел. Земля была уж разделена по едокам, и у меня тогда ее было на 5 едоков, потому, что в мою семью засчитали еще и бабушку. Каждая полоса была по пять саженей в ширину. С большим трудом я все обсеял и стал ожидать хорошего урожая. Но этого не получилось. Был самый плохой урожай, и того побило остатки градом. С поля не собрали и свои семена. Вот тогда-то я и принял много горя. Была семья, была и скотина, и птица, всех надо было прокормить до свежего урожая, да еще посеять надо было что-то. Тогда я, предвидя все это с осени, приготовил корм и для скота, и для семьи: много собрал лебеды, подобрал всю ботву и все, что можно было из огорода. И кроме всего этого покупал все, кто чего продавал.
В этот 1921 год, особенно зимой, очень много уехало хозяйств, в хлебные места: кто - в Сибирь, кто в Вологодскую губернию. И вот, от уезжающих я покупал, где немного зерна, где соломы, где картофель. Одним словом, по моему расчету должно было хватить до свежего урожая.
А весной некоторые еще стали продавать посевы озимовые и тоже уезжать. Я и это дело не упустил. Кроме тог. В ту весну из поселка Кез (расположен в 32 км. от села Дебесс) принес на себе 14 пудов семенного материала, то что дало государство в ссуду. Носил по 20 килограммов. Жена тогда была беременная Галей, которую родила той же весной. А на лето вырос такой урожай, что у меня хлеба девать некуда стало. Да! Вы можете, дети спросить, почему носили из поселка Кез семена на себе? А лошади-то не ходили. Лошадей было всего по всем Дебессам около 53-х, остальных угнали белые.
По зиме уже, привез с купленного посева в деревне Малый Зетым снопами 30 возов ржи и намолотил 250 пудов, а хлеб со своего поля оставил в кладях, в поле же, на год. В тот же год я принял на иждивение дядю Наума и тетку Наумиху. Кроме этих стариков мне приходилось помогать и своей матери и отчиму во всем, ну, и они взаимно тоже помогали, чем могли.
Дебесские коммунары
В этот же 1921 год я перестроился, с переселением на новое место, на угол Набережной, и приобрел еще старую корову и другую скотину. С того времени и до 1924 года довел свое хозяйство до среднятского и был уже очень влиятельный на общество.
В первую очередь, организовал потребительское общество и был там первым членом и членом правления. Через год организовал кредитное товарищество и тоже был членом правления. В дальнейшем предвидел, что хозяйство индивидуально поднимать, нецелесообразно. К этому времени у меня в хозяйстве уже были все сельскохозяйственные машины, в достаточном количестве скот, и вполне хорошо упитанный. Тогда я решил так, чтобы чем нибудь ознаменовать хорошим память Владимира Ильича Ленина, стал собирать сторонников общественного землепользования, которых и уговорил в количестве 8-ми хозяйств. С ними мы организовали коммуну «МУРАВЕЙНИК». Это было как раз 21-го января 1925 года. Первым председателем был избран я.
На пути организации было очень много препятствий, с которыми приходилось сталкиваться исключительно мне, как председателю. Перечислять их очень уж много, да и нет в этом надобности.
Тогда еще ни одной артели и коммуны в республике не было, поэтому с трудом добились даже устава коммуны. Но спустя 2 года нам дали участок на «Куиньсерго», где мы и начали общую стройку и за один 1927 год смогли построить дом трехэтажный, скотный двор на 90 голов, кирпичный сарай, молотильный сарай, кузницу, баню, зерносклад, только не успели огородить оградой.
И вот 1 января 1928 года я со своим семейством переселился на «Куиньсерго» в новый дом и прожил там до осени. В декабре 1928 года переехал в лисинский дом в связи с организацией крупного колхоза, где я был зампредом по совместительству и в то же время был председателем коммуны. Как раз тогда проходило раскулачивание, в связи с чем,в нашу коммуну, в основной капитал, было передано много одежи, домов, хозяйственных построек, скота и прочего имущества на сумму приблизительно 10 тысяч рублей. Но я не погрешен, в том, что - либо присвоил. Даже жене запретил брать деньги из коммунального склада.
К весне 1929 года я переехал опять на другую квартиру, а лисинский дом заняло ОГПУ. Но крупный колхоз просуществовал недолго, только до выпуска статьи товарища Сталина «Головокружение от успехов». И опять начался отлив из колхозов, но у нас в коммуне осталось 60 хозяйств.
Параллельно с коммуной организовался колхоз «АНДАН» в нашем селе, первым председателем его стал Козьма М. Афанасьев. Коммуна же наша жила в полном смысле по ее уставу. Мы работали, кто чего мог, и получали, кому, что было нужно. Я собирался даже одеть по одной форме всех коммунаров. Была общая столовая для всех коммунаров, и кроме того выдавали на руки деньгами на мелкие расходы по 1 рублю в месяц всем, кроме детей, которые были в своем интернате и который вы и сами помните, дорогие дети, и знаете, как было хорошо или плохо.
За показательное поведение и успехи в хозяйстве наша коммуна была премирована в 1930 году 25 тысячами рублей денег, а мне лично дали настольный бюст Фридриха Энгельса, который я подарил правлению коммуны.
«Работа есть всегда»
Весной 1929 года я опять переехал в свой дом на углу улицы Набережной, а к концу этого же года в дом Скрябина, где была и контора. Свой дом продали коммуной погорельцу - Малых Павлу Семеновичу. В Скрябинском доме прожили 1,5 года. За это время коммуна реорганизовалась в сельхозартель имени «Ленина». Меня тогда взяли в строительный участок, а председателем после меня недолго был Суслов. Потом, председателем заступил Малых Константин И. Я в это время строил льнозавод целый год, а потом его перевезли в МТС под мастерскую.
Будучи председателем, Костя мне предложил переехать на квартиру Дмитрия Викторовича Малых, и там я прожил до 1934 года. По моей же инициативе на правлении был поставлен вопрос об удовлетворении своими домами бывших коммунаров. И вот, по силе возможности, стали покупать дома, а некоторых вселяли в бывшие кулацкие дома.
В связи с этим, я покупал дом Поздеева Николая Ивановича, бывшего нашего коммунара. Но с покупкой этого дома ничего не вышло, потому что квартирант, который до той поры жил в нем, сделал поддельные документы на покупку этого дома и без суда ни за что не освобождал его. И дело я довел до Верховного суда СССР. Только тогда выявили поддельные документы и посадили его на 3 года, где он и кончился. А дом присудили мне. Дело это длилось 2 года, и я за это время купил на горе дом Егора Петровича Стрелкова и переехал туда в со своей семьей осенью 1934 года, а следующим летом поставил новый, из купленных срубов. На горе в новом доме мы жили с семьей с 1935 года до 1952 года. Там я всех остальных ребят вырастил и поставил на свои ноги. Там я похоронил и жену. Там я и женился во второй раз.
В 1940 году меня выбрали в пятый раз председателем своего колхоза. И на этой работе я проработал до осени 1942 года. А потом я работал в лесу со своим сыном Витей до января 1943 года, и оттуда вызвали, послали в самый отстающий колхоз имени «Кирова». Там я проработал с 15 января 1943 года по 17 июля 1943 года. Потом не мог ходить ногами месяца два, и меня больше туда не послали.
Я же после оздоровления стал работать на постройке Дебесской ГЭС бригадиром строительной бригады вплоть до пуска таковой в эксплуатацию, то есть до 1947 года, а потом опять в колхозе до 1950 года.
С 1950 года заболел, поехал лечиться по больничной путевке, и за это время меня исключили из колхоза только за то, что постоянно критиковал за их недостатки. Ну, я апеллировать не стал, а проработал полгода на воле, в своем же селе на разных работах в учреждениях и организациях, а потом надумал уехать.
И вот, продав свое хозяйство, поехал к Вам в город Сарапул в июне 1951 года и пробыл там до июня 1953 года. Приехав обратно домой, купил бывший дом Малых А.И., в котором и сейчас живу.
На алтарь революции и родины
После приезда меня опять пригласили работать на Дебесскую ГЭС, где и проработал два года. А потом в средней школе и райпо еще год. А теперь опять в своем детище в колхозе имени «Ленина». Сейчас работаю уж очень плохо, почти не выхожу на работу в колхоз. Сейчас все-таки начисляют ежемесячно по 12 трудодней пенсии.
Вот, мне кажется, и вся моя краткая биография. Многое уже забылось и нельзя точно, последовательно вспомнить, к тому же писал наспех. Вот вы спросите, а где же, мол, в ней моя работа в советских учреждениях и кооперативе? Это верно. Но вы сами знаете, что в сельский совет я избирался 8 или 9 раз. В исполком сельского совета и райисполком 10 раз, в члены райкома 2 раза, члены обкома 1 раз, секретарем первичной организации колхоза 2 раза.
Вот все то, что я мог выложить на алтарь революции и своей дорогой Родины, все от меня возможное и здоровье, и лучшее. Это в награду для вас, мои любимые дети! А еще лучшего, добейтесь уж вы сами, если у вас будет здоровье и желание с разумом!
Ну, если что, может вам покажется неверно или что пропущено, обо всем этом напишите мне. Правда аналогичная автобиография имеется у моего брата - Владыкина Александра, тоже написанная мною по его просьбе. Тут совсем не говорится про мою мать, отчима и брата. Но из вас Тая, Санно и даже Роза все это знают без писания.
М.Л. Главатских, любящий вас отец и друг ваш. 7 декабря 1959 года.
Опубликовано в газете «Инфопанорама №3 за 19 января 2006г., и №5 за 2 февраля 2006 года. Удмуртия, г.Ижевск.